Патриотизм – это любовь к Родине, к тому месту, где ты вырос, к своему городу, людям, которые рядом с тобой, к природе и культуре. Это воспитание настоящих духовных опор и ценностей в жизни человека. Если он это с детства впитал, полюбил, поверил, если не может без этого жить – естественно, что он будет это защищать, отстаивать, беречь и дорожить. Но это непременно должно быть искренне и по-настоящему. Пьеса «Эшелон» привлекает как раз своей абсолютно пронзительной искренностью. Михаил Рощин сам мальчишкой ехал в таком вагоне в эвакуацию, для него эта история – личная.
Неслучайно он посвятил ее своей матери.
Как пишет автор, мы сами не знаем запаса своей прочности. Инстинкт самосохранения – это арифметика, но есть и алгебра – жизнь человеческого духа. Слабый человек встает из праха и делает шаг вперед. Духовная опора, делающая это возможным, и есть патриотизм.
Александр Коршунов
«Нашей целью было рассказать про слабых женщин, оказавшихся в тылу в условиях, которые им предложило время, и про то, как они встали и сделали шаг вперед. Впервые взяв пьесу, я постаралась прочитать ее с “холодным носом”, без слез: мне дали некий материал, и я должна сделать хорошую работу. Но, не пропустив через себя, ничего не поймешь и не сыграешь. У каждого персонажа в спектакле есть монолог. Когда ты их волей-неволей слушаешь (а мы же все время на сцене), ты выходишь из роли. То есть я их слушала не как Маша, а как Женя Казарина. Я не могла поверить, что все это было! Мне кажется, мы даже на малую толику не представляем, что было внутри у этих женщин. Мы попытались – но уверена, что все было гораздо тяжелее и экстремальнее», – говорит исполнительница одной из центральных ролей Евгения Казарина.
Премьера убедительно, но ненавязчиво доказывает, что человек сам не знает, на что он способен. Присутствие режиссера ощущается в спектакле не только в построении мизансцен: его голос звучит в чтении развернутых авторских ремарок, предваряющих каждую из частей пьесы Михаила Рощина. Проникновенная интонация, эмоциональные паузы, в которых особенно чувствуется работа души и сердца постановщика, делают эти небольшие эпизоды столь же значимыми, как и основное действие. «Наши матери были простые женщины, самые простые, слабые женщины – те, кого принято называть простыми, слабыми женщинами», – произносит Александр Коршунов, и эта фраза, наполненная глубоким личным чувством, заставляет вспомнить о его матери – основательнице «Сферы» Екатерине Еланской. «Мысль о маме была и у меня – подсознательно и сознательно. Читая замечательные тексты Рощина, написанные к каждой части пьесы, я сразу понимал, что они должны звучать в спектакле. И очень хорошо, если они воспринимаются как мое личное посвящение», – говорит режиссер.
Точек соприкосновения с действительностью в премьере достаточно много, и это снимает вопрос об актуальности темы, равно как и о том, появилась бы постановка в репертуаре, если бы не знаменательная дата. «Не могу сказать, что эта постановка стопроцентно возникла бы, но праздник 80-летия Великой Победы подтолкнул к мысли об “Эшелоне”. Совершенно закономерно, естественно и желанно, что именно эта пьеса и этот автор появились в “Сфере”, потому что это очень хорошая драматургия и большая школа для театра, труппы и меня самого. Создание спектакля – мощного оркестра, полифонии, в которой почти все действующие лица одновременно находятся на сцене, – это и непросто, и интересно. И, хотя тема, безусловно, связана с Великой Отечественной войной, она абсолютно вневременная и общечеловеческая», – продолжает постановщик.
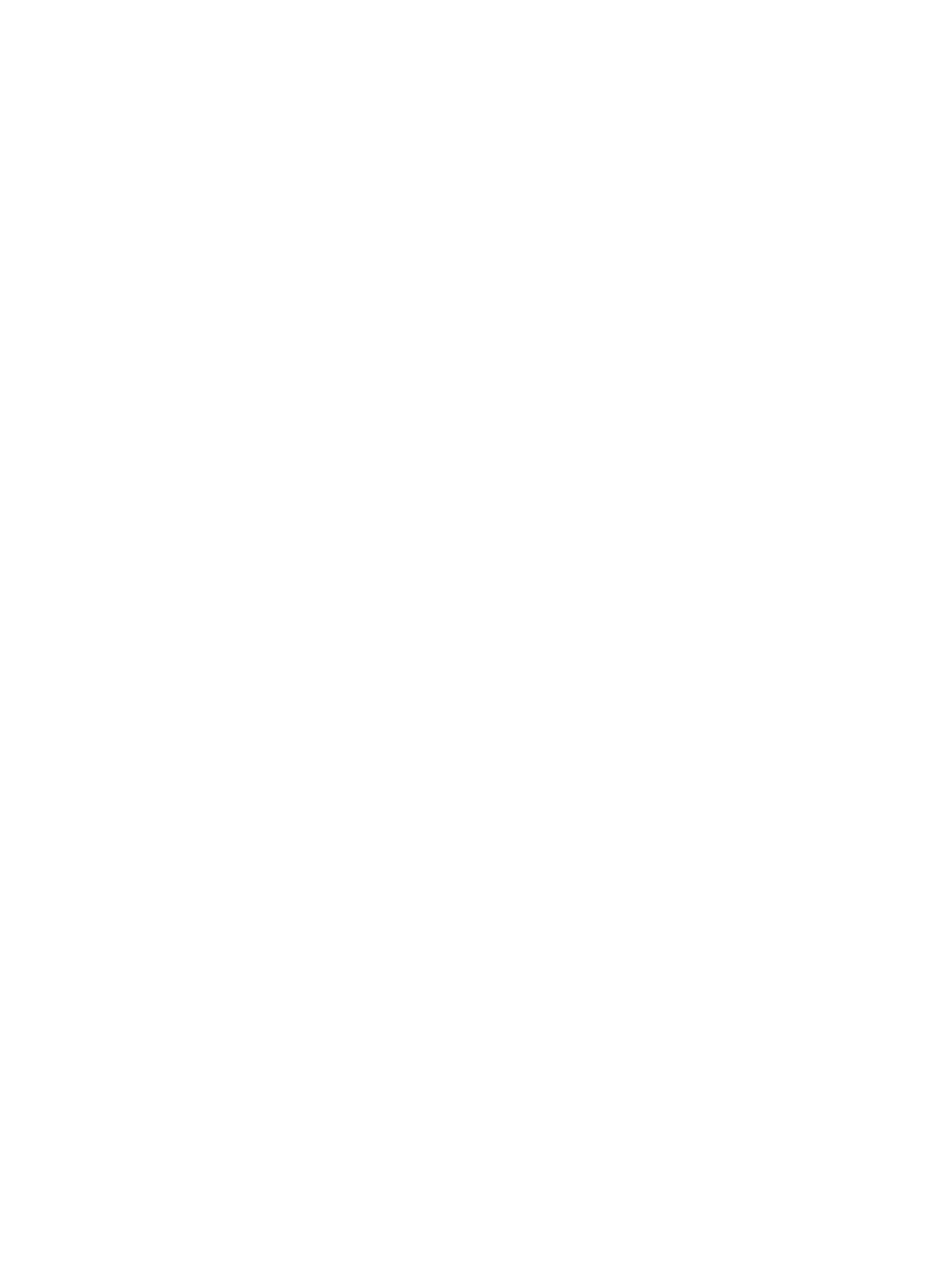
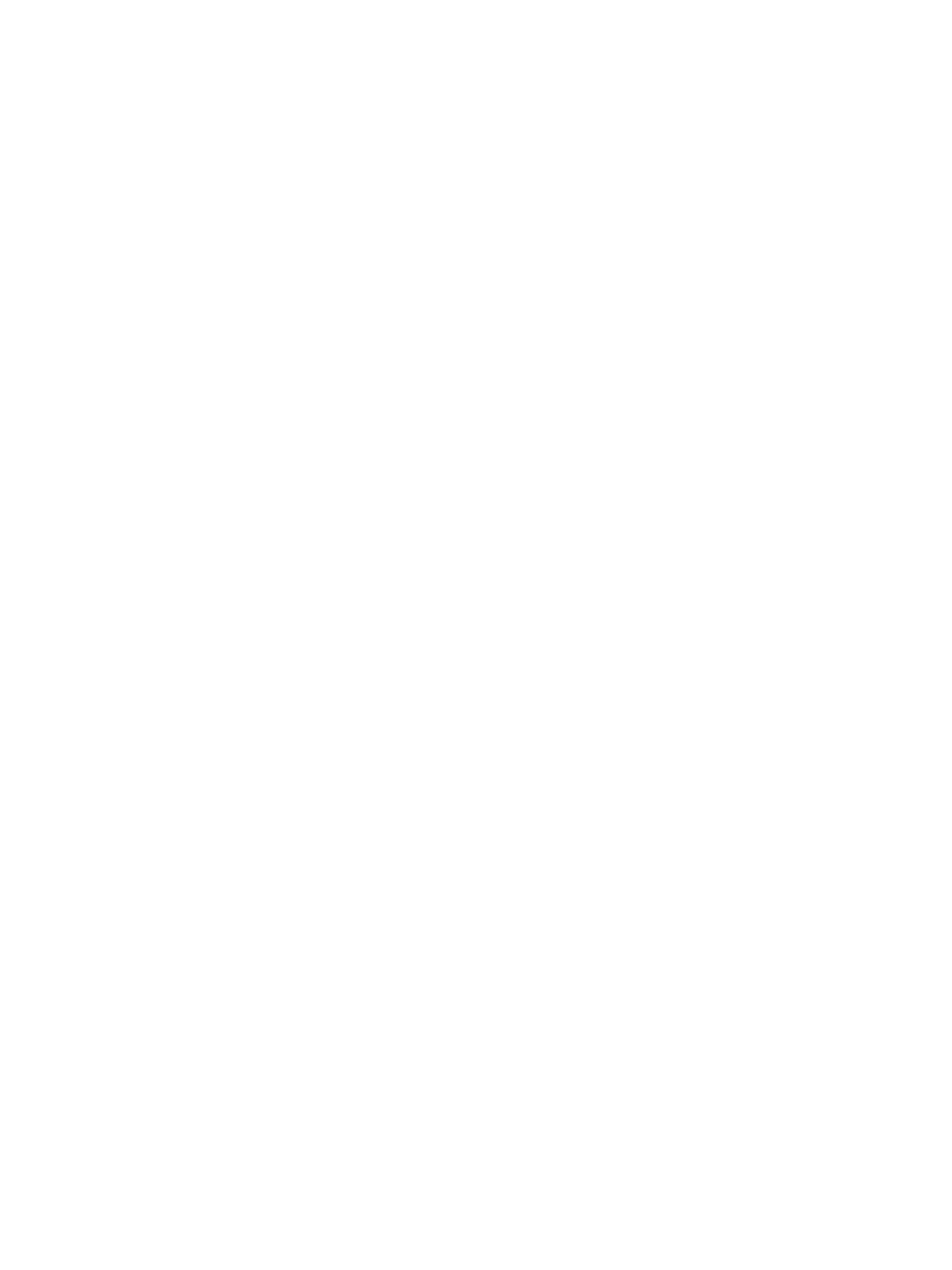
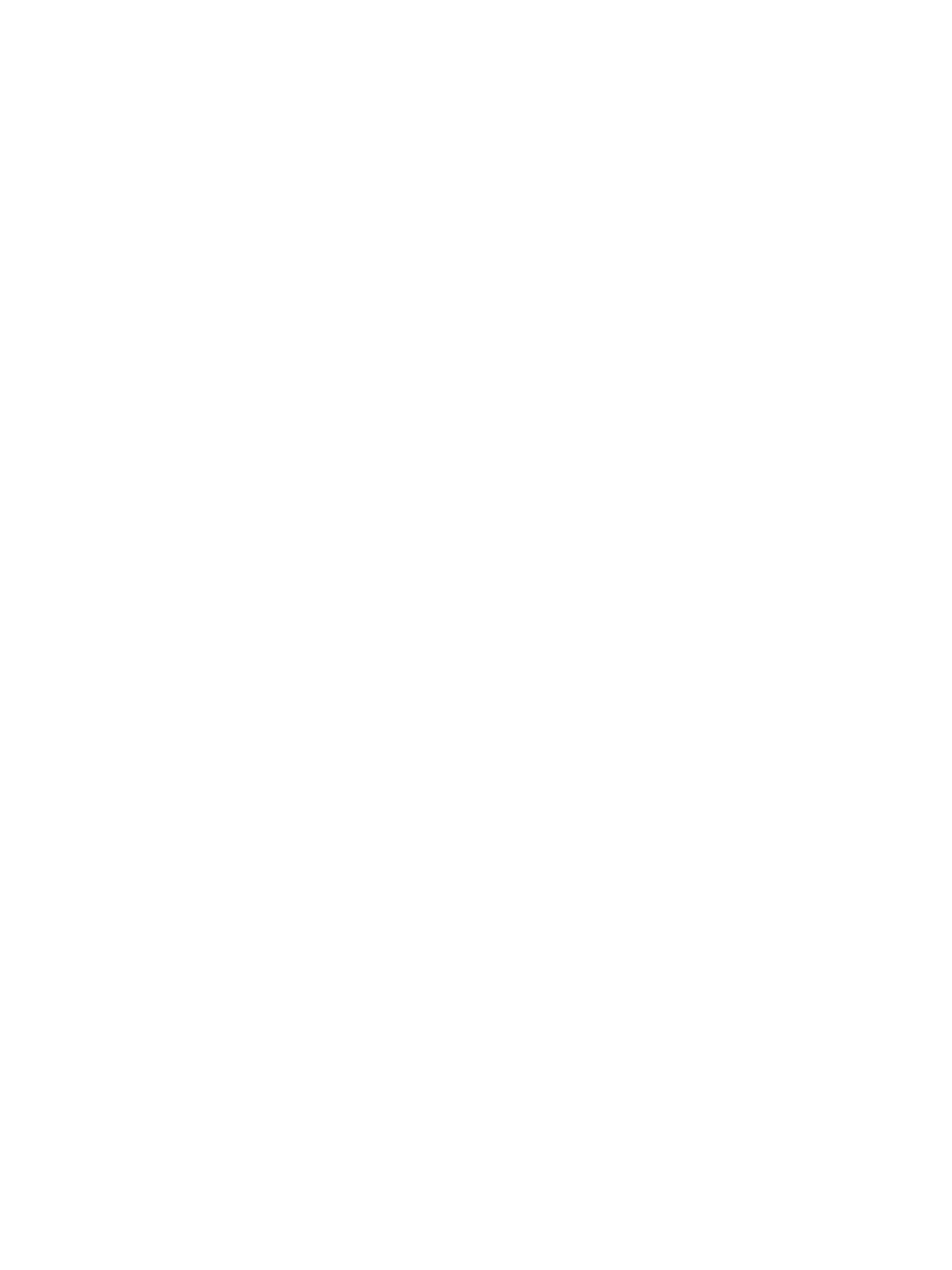
Он видит исток победы в единстве – как осознанном выборе непохожих, часто чуждых друг другу людей, сплотившихся ради достижения общей великой цели. Той, что одна на всех. Ради нее можно, сгрудившись в тесной теплушке с двухъярусными полками, невыносимо долго тащиться в эвакуацию – в неведомую даль, погибать под обстрелами, недоедать, не спать ночами. Сценограф Ольга Коршунова выстраивает на сцене каркас вагона, в котором навстречу неизвестности едут измученные русские женщины, до изумления разные, но сумевшие объединиться, сродниться – во имя жизни и справедливости. Стук колес, паровозные гудки, актрисы, с трудом «открывающие» невидимые тяжелые вагонные двери, без излишних средств создают ощущение правды происходящего. Круглый зрительный зал «Сферы» охватывает декорацию со всех сторон, вовлекаясь в действие. Да, так происходит на каждом спектакле этого уникального по архитектуре московского театра, но именно в этом обретенная общность настолько важна и верна.
«На мой взгляд, пьеса именно о совместном преодолении, о родстве, возникающем в трудных обстоятельствах. Тяжелое не поднимешь в одиночку. Процесс сближения героинь – сквозная линия спектакля. Вначале мы видим почти случайно объединившихся женщин: разного возраста, социального положения, разных характеров и культуры. Оказавшись в такой обстановке, они конфликтуют, схлестываются, порой очень жестко, по-разному себя проявляют. Есть те, кто старается всех объединить: Галина Дмитриевна, Маша. Но в результате все приходят к мысли, что “мы еще вспомним этот эшелон как нечто великое, что было в нашей жизни”. Как говорит Ива: “Я поняла о людях больше, чем за всю жизнь”. И даже финальный страшный налет, которым заканчивается “Эшелон”, когда есть погибшие и раненые, горит вагон, решен так, чтобы, упаси Бог, не было похоронной интонации. Потому что это тоже история сильнейшего преодоления. Все люди – и слабые, и больные – как могут помогают друг другу. Все преодолевают беду: кто яростно, кто из последних сил. Такие же простые слабые женщины, как наши героини, тянут к ним руки и принимают их к себе в вагоны. Высочайший духовный подъем рождается в таких страшных условиях. Очень хочется, чтобы это было и в нашей повседневной жизни», – замечает Александр Коршунов.
Спектакль начинается с пролога – хореографического этюда хрупкой девушки в светлом платье (балетмейстер Антон Лещинский). Катя (Владислава Самохина), вечно страдающая, неприспособленная к жизни («никак не может вправиться в эту жизнь, абсолютно не принимает действительность, не может с ней примириться и в ней существовать, сопротивляться ей, как остальные», – говорит о ней режиссер), танцует под музыку Свиридова, вспоминая прежние счастливые дни и предчувствуя грядущие страшные. Этой героине отдана тема любви и верности – она томится в разлуке с мужем, с которым раньше почти не расставалась, не спит ночами, не обращает внимания ни на что вокруг, так что о ней тревожно замечают: «Она совсем не может без него». В пьесе она кажется не столько живым человеком, сколько идеей автора, представленной несколько искусственно. Трудно избавиться от такого восприятия и в спектакле.
Возможно, это происходит потому, что главное действующее лицо в нем – коллектив, а не личность, хотя у каждой героини – своя индивидуальность. «Мир держится на китах, а эта пьесах – на нескольких героях. Есть начальник вагона Галина Дмитриевна, Маша, Ива и Лавра. Они заметнее других, хотя это и не значит, что они главные. Драматург раскрывает через них основные типы характеров того времени. Но, убери остальных, – и тоже ничего не склеится», – рассуждает Евгения Казарина. С ней можно поспорить хотя бы в отношении Ивы (Нелли Шмелёва) – старой девы, себя характеризующей жестко: «Я просто с четырнадцати лет живу одна... Я все делаю сама и только для себя самой. Завариваю чай – для себя одной, покупаю билет в кино – один, для себя одной, стираю – только для себя одной». Актриса точно отыгрывает и независимость, и принципиальность, и прямолинейность сотрудницы технической библиотеки, каждое утро начинающей с длительной зарядки, однако принципиальности и прямолинейности достаточно у юной комсомолки Ирины (Елена Маркелова), а независимости с избытком в Лавре (Екатерина Богданова), со временем открывающей в себе и самоотверженность, и сердечность, способность заботиться о другом. То же делает и Ива, взявшая на себя ответственность за прибившегося к составу глухонемого, что в каком-то смысле воспринимается как повторение.
А вот другие героини действительно являются стержневыми. По пьесе главенствующее положение принадлежит, пожалуй, Галине Дмитриевне (Александра Чичкова), но в спектакле в центре внимания оказывается, скорее, Маша. «Неслучайно мою героиню так зовут: она – олицетворение народа. Она работала в литейном цехе – по тем временам это хорошая специальность, и муж у нее был мастер, следовательно, семья не бедствовала. И все же она – от сохи: человек-Земля, человек-Мать». Именно такой играет ее Евгения Казарина. Невозможно не радоваться ее жизнелюбию, смелости, силе, не сопереживать горю, сопровождавшему ее с детства: она пережила смерти родителей и младшей сестры, пришедшиеся на период Гражданской войны, потерю одного из детей. Муж ее, настоящий русский мастер-богатырь, воюет на фронте – а у Маши свой фронт, как и у ее товарок, вынужденных взять на себя мужские обязанности. «Женщин-героев много, мы о них читали еще в школе. А наш спектакль о тех, без кого Победа тоже не могла бы случиться. Я для себя это называю “тихим геройством”. Они каждодневно проявляют мужество, берут на себя мужские заботы: идут в трактористы, работают на заводах. Не потому, что хотели, – им пришлось. Меня однажды спросили, можно ли считать это проявлением феминизма. Формально – да, но на самом деле – это совсем другое. Они же не за равноправие боролись, а вынужденно на это пошли. Для кого-то такой поворот был желанен, но большинство потом вернулось к своей обычной жизни, где нужно хранить очаг и воспитывать детей», – говорит артистка.
Некоторые из героинь шире понимают долг женщины, и одна из них – Галина Дмитриевна, интеллигентная и сильная, но не властная. Она становится начальницей вагона не потому, что выше всех по положению: нет, этому способствует ее сдержанность, мудрость, опыт и высокая человеческая нравственность. Порой ее суждения звучат дидактично, но в них чувствуется искренняя убежденность, а потому эти очевидные слова успокаивают, мобилизуют, дисциплинируют. В исполнении Александры Чичковой героиня предстает усталой, втайне встревоженной, немного романтически-наивной, но духовно-несгибаемой. На ее чуть опущенное плечо всегда можно опереться. Она в самых трудных условиях не позволяет себе распускаться, и женственное платье, подчеркивающее ее природное изящество, как будто подсказывает исподволь, что и другие должны следовать ее примеру.
Но на это способны разве что ее дочь, да Ива с Машей, а как заставить сочную веселую Лавру, не желающую даже причесаться как следует и уже с утра мечтающую о глотке горячительного, не будоражить пестрое общество? Впрочем, в этой разбитной героине много симпатичных черт, смелости и прямоты, энергии, спасающей от уныния более слабых людей вокруг, жесткости, чтобы противостоять обстоятельствам, твердости, чтобы идти к победе вместе со всей страной. Небрежно одетая женщина, курящая и сквозь зубы бросающая в ответ на упрек, что не стоит смущать детей полуголым телом: «А в доме четырнадцать не дети были? А в девятом детсадике не дети? Руки, ноги оторванные – на это можно детям?» – это Лавра. Она же – красивая, разрумянившаяся, отчаянно, как будто вопреки войне танцующая с молоденьким летчиком из поезда, везущего военных фронт. И собранная, помогающая принять роды у товарки, а потом внимательно и тихо слушающая истории Машиной трудной жизни, – тоже она.
Можно ли считать ее «положительной»? Разумеется, но в спектакле «Сферы» герои предстают не просто персонажами пьесы. «К финалу со всех как будто шелуха спадает. Партийная Ирина, твердившая о комсомоле, захотела в школу. Ива, жившая только для себя, начинает заботиться о глухонемом. Даже сильная мужественная Маша, хранящая человеческое лицо в нечеловеческих условиях, ведущая за собой остальных, вдруг проявляет слабость. Потому что все – обычные люди, а не герои с плакатов. Катя решается вылезти из вагона, а Маша оказывается не такой уж “наковальней” и не может на это решиться», – замечает Евгения Казарина. Справедливости ради, в постановке нерешительность ее героини кажется вызванной не слабостью, а, скорее, усталостью: сколько можно совершать героические поступки?
Тем более что не все готовы так же, как Маша, отдавать себя общему делу и благополучию. Но, если свекровь Лавры – классическая трагическая еврейская старуха (Ирина Сидорова), постоянно, хотя и без ожесточения, пытающаяся укорить невестку и жалующаяся на то, что старых людей «бросают, как собак», – способна и на сочувствие, и понимание, а Саввишна (Людмила Корюшкина), несмотря на тоже не скрываемые мелочность и недоброжелательность к людям, искренне переживает не только за беременную дочь Тамару (Екатерина Тонгур), сварливую, ревнивую, не слишком умную, но не испорченную внутренне, но и за страну и ее защитников, то есть в истории и более неприглядные характеры.
Нина (Екатерина Ишимцева) – вялая, безынициативная, болезненная, поддающаяся панике и слабо осознающая социальные, исторические и психологические подоплеки событий, действий и идей женщина. Ее инертность исподволь разлагает коллектив, она способна бездумно обидеть окружающих, как задевает она глупым словом суетливого нервного доктора Федора Карлыча (Михаил Никитин). «Да это хорошо, что вы в нашем эшелоне-то! Он-то (показывает вверх) разведал уже небось, что вы едете, вот и не бомбит, своих-то!» – говорит она, имея в виду национальность несчастного врача, трусящего, что он из немцев. Он кажется таким беспомощным, бесхребетным, что ему и самому нужна помощь и поддержка, а тут – такое замечание, оскорбительное именно тем, что брошено без понимания. Юрка, сын Нины сбежит на фронт после встречи с летчиками, но этот смелый поступок – следствие его собственной внутренней взрослости, а не материнского воспитания.
Но, пожалуй, главная «отрицательная» героиня (насколько в этом спектакле можно выделять героев «положительных» и «отрицательных») – это Лена (Виктория Склянченкова), крикливая злобная мещанка, чьи интересы сосредоточены исключительно на себе, а до окружающих и даже страны ей дела нет. Прямолинейная Ирина считает ее ядовитые замечания «вредительством», и с девушкой трудно не согласиться. Присущие женщине пораженчество и психология «моя хата с краю», такие знакомые нам сегодня, вызывают яростное отрицание. Возможно, поэтому автор и «ссаживает ее с поезда»: вместе с младенцем она тихонько уходит со станции в деревню, где, как ей кажется, будет безопаснее и сытнее.
Однако спектакль даже к финалу, когда уже не будет Лены с Юркой и умрет в тамбуре захворавшая Саввишна, не дождавшаяся внука, не становится менее многолюдным. Возможно, присутствие юных артистов, хотя и добавляющих происходящему достоверности, не столь необходимо, как казалось автору; возможно, суету вносит и бестолковый шумный Есенюк (Павел Гребенников), невесть за какие заслуги назначенный начальником эшелона. В определенный момент круговерть лиц и монологов утомляет, однако встреча с летчиками в пути, принесшая столько радости, смеха и даже танцев с музыкой, вновь придает импульс замершему было действу. Несколько тягостное впечатление оставляет разве что сцена с Катей, притащившей «для растопки» деревянный крест с могилы. Отрешенная от жизни хрупкая дева, собирающаяся сжечь христианский символ, вносит ощущение соприкосновения с чем-то неестественным. Эпизод взят из пьесы, но в постановке выглядит, разумеется, более выпуклым, а потому пугающим сильнее, чем в тексте.
Тем не менее, в «густонаселенности» спектакля заключено художественное воздействие. Это было важно, хотя и не просто, почувствовать и артистам. «Сначала, при выборе этой пьесы, мы очень радовались, а потом вдруг поняли, что одновременно на сцене будет находиться 18 человек. Ты не можешь пропустить репетицию, потому что участвуешь в каждом эпизоде, с текстом или без него. Сложно было и Александру Викторовичу, который действительно стал “начальником поезда”: всех надо привести к общему знаменателю, чтобы действие не расползлось. Тяжело и актерски. Когда ты один, ты “берешь” зрителя и ведешь его за собой. А в такой постановке не все от тебя зависит: как сыграют твои партнеры, помогают тебе или мешают. Это же оркестр, в котором никому нельзя фальшивить. Усталость у нас была катастрофическая. И материал совсем не простой, и работали мы, не выходя из театра, с апреля. Получилось так, как говорит Галина Дмитриевна: “Все мы как сестры, больше, чем сестры, мы как одна семья”. Мы на самом деле воплотили “Эшелон”: провели столько времени вместе, несмотря на трудности и абсолютно разные характеры», – рассказывает Евгения Казарина.
Актриса тоже говорит о единстве, необходимости перетерпеть тяготы и понять другого человека, отличного от тебя. Интересно, что одну из самых известных постановок пьесы – спектакль Галины Волчек в «Современнике» – критик в этом отношении оценивал достаточно жестко: «Разобщенность людей еще более подчеркивается приемом выделения персонажей из массы – с помощью света, мизансцен – то поодиночке, то парами. <…> Мысль о силе сплоченности, взаимовыручки, благотворности воспитанного в советских людях чувства коллективизма более декларируется в тексте Автора-ведущего, чем выявляется в действии» [Данилова Г. Спрос особый / Театральная жизнь. – 1975. – № 20, октябрь. – С. 10]. Александр Коршунов расставляет акценты совсем по-иному: да, очень разные женщины собрались в эшелоне, да, им трудно вместе – а кому было бы не трудно, окажись он в абсолютно чуждой компании? – но почти все понимают, что им придется стать единым целым. И, безусловно, удастся, хотя и позднее, и не всем.
Возможно, главный вопрос для режиссера, решившегося сегодня взять военную тему для постановки, был сформулирован критиком полвека назад: «Как сделать, чтобы Победа стала столь же дорога тем, кто за нее не сражался, но кому предстоит свято беречь, мужественно защищать ее детище – мирный день Родины, за который пожертвовали своей жизнью тысячи и тысячи солдат Великой Отечественной…» [Данилова Г. Спрос особый / Театральная жизнь. – 1975. – № 20, октябрь. – С. 8]. Думается, Александру Коршунову удалось найти в душах своих артистов и зрителей струны, отзывающиеся на этот посыл. Наверняка сегодня многие согласятся со словами Евгении Казариной: «Я очень любила участвовать в ежегодных концертах к 9 мая. Это не только дань памяти, но и некое очищение: ты заставляешь свою душу потрудиться, а не смотришь со стороны, плачешь. Так происходит и в этом спектакле. Я уверена, что постановки на эту тему очень важны. Дело не в том, что это благодарная память нашим дедам, хотя это внутри каждого хранится. Историю тысячу раз переписывают, как будто обнуляют и не придают этому значения. А театр может помочь человеку прожить ее. Сейчас у нас есть постоянный военный фон, мы слышим новости, но это не так трогает нашу молодежь, как во время Великой Отечественной войны, когда все мальчишки стремились на фронт. Патриотизм был естественным понятием. Сегодня о нем говорят почему-то осторожно, потихонечку, а нужно к нему призывать. Мы должны подчеркивать, что Победа – это подвиг народа, а не отдельных добровольцев. Без коллектива ничего бы не получилось».
Да, спектакль о войне – работа, требующая особых сил от всех. Но постановка Александра Коршунова «Эшелон» сама способна влить эти силы в зрителя. «В нашей жизни много тяжелого и страшного, того, что может отнять силы и привести в отчаяние. С этим сталкивается каждый человек. Задача театра и в целом искусства совсем не в том, чтобы напугать его ужасным образом. Напротив: театр должен лечить душу, поднимать дух, давать надежду, опору и свет в конце любого темного тоннеля. В “Сфере”, задуманной Екатериной Ильиничной Еланской как пространство, где актер и зритель существуют в единой сфере общения, никогда не было пьес черных, упаднических. Это совершенно не в характере мамы и не в моем тоже. Да и пьеса “Эшелон” определена Рощиным как трагическая повесть для театра. А трагедия – это высокий духоподъемный жанр, предполагающий катарсис, мощный глубокий взгляд на жизнь. Наша премьера – это именно трагедия, а не реквием!»
Словами: «Дорогие мои, вам надо ехать дальше. Дальше. Долго. И вы будете ехать. Вы доедете. Вы должны доехать», – заканчивает свою трагическую повесть для театра Михаил Рощин. Спектакль Театра «Сфера» помогает каждому ощутить веру в то, что все, что мы должны в жизни совершить – будь то самый высокий и кажущийся не достижимым подвиг, не выполнимым – долг, – мы сумеем исполнить, как когда-то исполнили его «простые женщины, такие же простые слабые женщины – те, кого принято называть простыми слабыми женщинами». Потому что человек действительно сам не знает великого запаса своей прочности.
Фото из спектакля «Эшелон» Театра «Сфера» – Марины Львовой
В статье представлено фото репетиции спектакля «Эшелон» в театре «Современник», сер. 1970-х

