Согласно русской традиции
Все это наше русское, родное.
А.Н. Островский, Гроза
175-й сезон Томского областного ордена Трудового Красного Знамени театра драмы – прекрасный повод рассказать о спектаклях коллектива-юбиляра. Этой осенью главный режиссер театра Олег Молитвин представил экспертам из других регионов пять недавних постановок, премьеры которых вызвали резонанс и привлекли внимание зрителей. Чем они интересны, что составляет их идейно-нравственный посыл, какое художественное решение найдено для них постановщиками?
Постановки, отобранные главрежем коллектива к смотру, вовлекли в поле диалога критиков, труппу, сотрудников театра. Плюсы и минусы, необычные художественные приемы, проблемы и просчеты, неожиданные интерпретации, яркие актерские работы и сценографические решения – все стало предметом заинтересованного анализа. Подбор спектаклей для обсуждения дает срез томского репертуара: разнообразного, насыщенного, самобытного, качественного и актуального. Его генеральной линией является следование в русле традиций и ценностных ориентиров, среди которых – любовь и верность, семья и дети, понимание важности нравственных основ, способность к самопожертвованию, преданность Родине.
Так, театр одним из первых в России представил постановку о Специальной военной операции. Это «Братское сердце» Артема Киселева, осуществленное в рамках проекта «СВОи. Непридуманные истории» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В центре повествования – судьба Артема Василюка из Азова, образ которого воплощает Константин Калашников. Самая сильная часть истории относится к фронтовым событиям, хотя и рассказ о преодолении себя, тяжелой реабилитации после ранения, поиске новой цели в жизни Артема увлекает и трогает. Но в спектакле упор делается не на это, а на любовную линию. Конечно, отношения с волонтером Екатериной (Екатерина Мельдер), наделенной обаянием и внутренней силой, впоследствии ставшей женой главного героя, важны и для него самого, и для аудитории театра, однако возникает ощущение, что режиссер с драматургом Сергеем Максимовым излишне увлеклись пересказом всех событий из жизни пары и выбрали не совсем верную приподнято-романтическую интонацию.
Так, театр одним из первых в России представил постановку о Специальной военной операции. Это «Братское сердце» Артема Киселева, осуществленное в рамках проекта «СВОи. Непридуманные истории» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В центре повествования – судьба Артема Василюка из Азова, образ которого воплощает Константин Калашников. Самая сильная часть истории относится к фронтовым событиям, хотя и рассказ о преодолении себя, тяжелой реабилитации после ранения, поиске новой цели в жизни Артема увлекает и трогает. Но в спектакле упор делается не на это, а на любовную линию. Конечно, отношения с волонтером Екатериной (Екатерина Мельдер), наделенной обаянием и внутренней силой, впоследствии ставшей женой главного героя, важны и для него самого, и для аудитории театра, однако возникает ощущение, что режиссер с драматургом Сергеем Максимовым излишне увлеклись пересказом всех событий из жизни пары и выбрали не совсем верную приподнято-романтическую интонацию.

Спектакль Томской драмы – история хоть и реальная, но не вербатим, и порой кажется, что настоящие живые интонации ее прототипов пригодились бы работе. Главное ее действующее лицо – классический положительный герой: привлекательный, располагающий к себе, мужественный, но – как будто сошедший со страниц книги, а не вышедший из дымного окопа. Константин Калашников наделяет его всеми каноническими добродетелями российского военнослужащего: добротой, смелостью, способностью совершить подвиг. Все это правда, факты, выбранные для постановки, не противоречат ни биографии фронтовика, ни интуитивному представлению об армии, и все-таки приподнятый тон, хорошо поставленный голос и профессиональная актерская манера игры оставляют зазор между Артемом настоящим и Артемом сценическим.
А вот Антон Антонов – самый настоящий Сергей, тертый жизнью мужик, успевший отсидеть, доброволец, надежный товарищ и командир. Грубоватый, но сдержанный, не приглаженный, с внутренним нервом. Таких можно встретить на вокзалах с тяжелыми рюкзаками, их узнаешь по глазам, а не по шевронам. Эта неотлакированная достоверность действует на зрителя сильнее, чем пусть и абсолютно правильный и привлекательный, но идеализированный образ Артема.
При этом очевиден нравственный посыл режиссера, искренне подхваченный артистами, их душевный отклик на сегодняшние события, сочувствие и понимание, проявленное к своим героям. Возможно, это сейчас и есть самое важное в постановках на такую тему. Артем Киселев верно чувствует, что не нужно усложнять то, о чем рассказывается со сцены: условная сценография, ряд понятных ситуаций с однозначной оценкой, четко выверенная сюжетная линия, не содержащая отступлений. Эта история интересна и военнослужащим, наверняка узнаю́щим то, что они видят на сцене, и молодежи, в силу возраста увлекающейся романтической стороной боевых действий, и всем неравнодушным патриотически настроенным зрителям.
Есть в репертуаре Томского театра и проблемная постановка, посвященная непростым семейным взаимоотношениям. Пьеса «Карточки для Э.» драматурга Риты Кадацкой, поставленная Владиславом Хрусталевым, – произведение искреннее и трогательное, хотя стремление молодого автора вместить в небольшую обыденную историю сразу несколько событий, заставить героев пройти гораздо больше испытаний, чем то возможно в реальности, и претенциозные выводы наряду с искажением фактов ради спорных обобщений излишне перегружают текст.
А вот Антон Антонов – самый настоящий Сергей, тертый жизнью мужик, успевший отсидеть, доброволец, надежный товарищ и командир. Грубоватый, но сдержанный, не приглаженный, с внутренним нервом. Таких можно встретить на вокзалах с тяжелыми рюкзаками, их узнаешь по глазам, а не по шевронам. Эта неотлакированная достоверность действует на зрителя сильнее, чем пусть и абсолютно правильный и привлекательный, но идеализированный образ Артема.
При этом очевиден нравственный посыл режиссера, искренне подхваченный артистами, их душевный отклик на сегодняшние события, сочувствие и понимание, проявленное к своим героям. Возможно, это сейчас и есть самое важное в постановках на такую тему. Артем Киселев верно чувствует, что не нужно усложнять то, о чем рассказывается со сцены: условная сценография, ряд понятных ситуаций с однозначной оценкой, четко выверенная сюжетная линия, не содержащая отступлений. Эта история интересна и военнослужащим, наверняка узнаю́щим то, что они видят на сцене, и молодежи, в силу возраста увлекающейся романтической стороной боевых действий, и всем неравнодушным патриотически настроенным зрителям.
Есть в репертуаре Томского театра и проблемная постановка, посвященная непростым семейным взаимоотношениям. Пьеса «Карточки для Э.» драматурга Риты Кадацкой, поставленная Владиславом Хрусталевым, – произведение искреннее и трогательное, хотя стремление молодого автора вместить в небольшую обыденную историю сразу несколько событий, заставить героев пройти гораздо больше испытаний, чем то возможно в реальности, и претенциозные выводы наряду с искажением фактов ради спорных обобщений излишне перегружают текст.

Сильная сторона пьесы – доверительная личная интонация, которую в постановке подхватывает Вячеслав Радионов, играющий Мальчика. Немолодой артист, ведущий рассказ от имени ребенка, воспринимается абсолютно органично, поскольку недетская серьезность и грустная ирония глубже выявляют суть выбранной автором важной темы. Сама же история проста. Родители Мальчика в разводе. Папа (Виталий Огарь) – озлобленный самодовольный и грубый жлоб, Мама (Елизавета Хрусталева) – затюканная тяжелой жизнью женщина, страдающая в мегаполисе, но по многим причинам не могущая вернуться домой в закрытый город. Есть еще Бабушка (Олеся Казанцева) – полусумасшедшая старуха, сдвинувшаяся на почве денег и гибели старшего сына – хорошего, в отличие от оставшегося в живых Папы, не радующего никого, кроме себя. В этом диковинном людском зоопарке вынужден существовать главный герой.
Сравнение особенно наглядно, поскольку Бабушка раз в неделю водит внука в зоопарк настоящий – к макакам. Часть выгородки на сцене открывается, обнаруживая клетки, в которых резвятся обезьяны, мало отличающиеся от людей, окружающих Мальчика в реальности. Вернее сказать, люди не отличаются от макак – а потому и жизнь героя совсем не весела. Нелепые взрослые, активно жестикулирующие и шумные, заняты только собой, а под воспитанием ребенка понимают обязанность дать ему глазированный сырок и чай с молоком, и их галдящая стайка действительно очень похожа на сообщество братьев меньших.
Все возрастные персонажи одеты в синее и в синих же париках, словно сошли с детских рисунков, когда под рукой у малыша – единственный цветной карандаш. Условна их пластика и интонации: во-первых, потому что голоса их звучат в восприятии ребенка, во-вторых – потому что текст пьесы и описанные в ней ситуации выглядят несколько абсурдно. Условность также способствует обобщению. Плач Мальчика – звонок колокольчика, ругань родителей, переходящая в драку, передается энергичным встряхиванием сумок и чемоданов в руках героев. Квартира, обставленная креслами, легко трансформируется в вагон поезда (художник Владимир Авдеев), в котором тщетно пытается Мама удрать от Папы. Воспоминания об умершем сыне Славе материализует детская одежда крошечного размера, наброшенная на плечи главного героя. А в руках у него – символ недостижимой свободы, мечта: коробка с нарисованным синим парусником. «Я смотрю на кораблик в серванте – скоро, скоро придет и твое время. И, может быть, мы сможем немного поиграть…»
Артисты этой камерной постановки работают слаженным ансамблем, интуитивно ощущая простоту и важность того, о чем рассказывают зрителям. Неудавшаяся попытка побега приводит Маму и Мальчика в суд, где его определяют под опеку одного из родителей. «Зовите его одновременно. К кому он побежит, того и любит больше. Тому и отдадим», – заявляет судья, решающая судьбу двухлетнего малыша. Сцена, отсылающая к Соломонову суду, кажется излишне претенциозной, хотя снова игра Вячеслава Радионова немного смягчает драматургический просчет. «Я – человек», – говорит герой, подытоживая свою небольшую историю. Об этом и спектакль. Каждый из нас – человек. Маленький ребенок – тем более.
В программу вошли и две постановки Олега Молитвина – и обе по великой классике. Хотя объединяет их не только это. «Думаю, у любого режиссера есть своя тема. У кого-то в центре сюжета – женщина с проблемами, у другого – отношения отца и сына, заброшенность ребенка. У каждого есть своя слабая сторона, и она “пролезает” на сцену, хочет он того или нет. У меня в творчестве, как оказалось, фоном идет исследование сложной женской природы в конфликтной ситуации. “Катя” по Леониду Андрееву, “Гроза”, “Анна Каренина” – все об этом. Но кажется, пора уже поставить точку», – говорит режиссер.
Пока точка не поставлена, постановщик размышляет о судьбе Кати Кабановой из «Грозы», идя вслед (по всей вероятности, неосознанно) «Мотивам русской драмы» Дмитрия Писарева. По мнению критика, «ни одно светлое явление не может ни возникнуть, ни сложиться в “темном царстве” патриархальной русской семьи» – не является таковым и томская Катерина, слабая, экзальтированная, бесполезная для себя и окружающих. Она нелепо и практически без причины избавляет общество от своего существования, тем самым совершая для него (общества) благодеяние. В спектакле, пожалуй, темна не семья, а социальное устройство жизни и те, кто непосредственно им занимается, однако молодое поколение представлено таким инфантильным и незрелым, настолько совпадающим с писаревским описанием, что не согласиться с его грубыми, лишенными психологизма, хотя в чем-то и очень верными выводами просто невозможно.
Сравнение особенно наглядно, поскольку Бабушка раз в неделю водит внука в зоопарк настоящий – к макакам. Часть выгородки на сцене открывается, обнаруживая клетки, в которых резвятся обезьяны, мало отличающиеся от людей, окружающих Мальчика в реальности. Вернее сказать, люди не отличаются от макак – а потому и жизнь героя совсем не весела. Нелепые взрослые, активно жестикулирующие и шумные, заняты только собой, а под воспитанием ребенка понимают обязанность дать ему глазированный сырок и чай с молоком, и их галдящая стайка действительно очень похожа на сообщество братьев меньших.
Все возрастные персонажи одеты в синее и в синих же париках, словно сошли с детских рисунков, когда под рукой у малыша – единственный цветной карандаш. Условна их пластика и интонации: во-первых, потому что голоса их звучат в восприятии ребенка, во-вторых – потому что текст пьесы и описанные в ней ситуации выглядят несколько абсурдно. Условность также способствует обобщению. Плач Мальчика – звонок колокольчика, ругань родителей, переходящая в драку, передается энергичным встряхиванием сумок и чемоданов в руках героев. Квартира, обставленная креслами, легко трансформируется в вагон поезда (художник Владимир Авдеев), в котором тщетно пытается Мама удрать от Папы. Воспоминания об умершем сыне Славе материализует детская одежда крошечного размера, наброшенная на плечи главного героя. А в руках у него – символ недостижимой свободы, мечта: коробка с нарисованным синим парусником. «Я смотрю на кораблик в серванте – скоро, скоро придет и твое время. И, может быть, мы сможем немного поиграть…»
Артисты этой камерной постановки работают слаженным ансамблем, интуитивно ощущая простоту и важность того, о чем рассказывают зрителям. Неудавшаяся попытка побега приводит Маму и Мальчика в суд, где его определяют под опеку одного из родителей. «Зовите его одновременно. К кому он побежит, того и любит больше. Тому и отдадим», – заявляет судья, решающая судьбу двухлетнего малыша. Сцена, отсылающая к Соломонову суду, кажется излишне претенциозной, хотя снова игра Вячеслава Радионова немного смягчает драматургический просчет. «Я – человек», – говорит герой, подытоживая свою небольшую историю. Об этом и спектакль. Каждый из нас – человек. Маленький ребенок – тем более.
В программу вошли и две постановки Олега Молитвина – и обе по великой классике. Хотя объединяет их не только это. «Думаю, у любого режиссера есть своя тема. У кого-то в центре сюжета – женщина с проблемами, у другого – отношения отца и сына, заброшенность ребенка. У каждого есть своя слабая сторона, и она “пролезает” на сцену, хочет он того или нет. У меня в творчестве, как оказалось, фоном идет исследование сложной женской природы в конфликтной ситуации. “Катя” по Леониду Андрееву, “Гроза”, “Анна Каренина” – все об этом. Но кажется, пора уже поставить точку», – говорит режиссер.
Пока точка не поставлена, постановщик размышляет о судьбе Кати Кабановой из «Грозы», идя вслед (по всей вероятности, неосознанно) «Мотивам русской драмы» Дмитрия Писарева. По мнению критика, «ни одно светлое явление не может ни возникнуть, ни сложиться в “темном царстве” патриархальной русской семьи» – не является таковым и томская Катерина, слабая, экзальтированная, бесполезная для себя и окружающих. Она нелепо и практически без причины избавляет общество от своего существования, тем самым совершая для него (общества) благодеяние. В спектакле, пожалуй, темна не семья, а социальное устройство жизни и те, кто непосредственно им занимается, однако молодое поколение представлено таким инфантильным и незрелым, настолько совпадающим с писаревским описанием, что не согласиться с его грубыми, лишенными психологизма, хотя в чем-то и очень верными выводами просто невозможно.
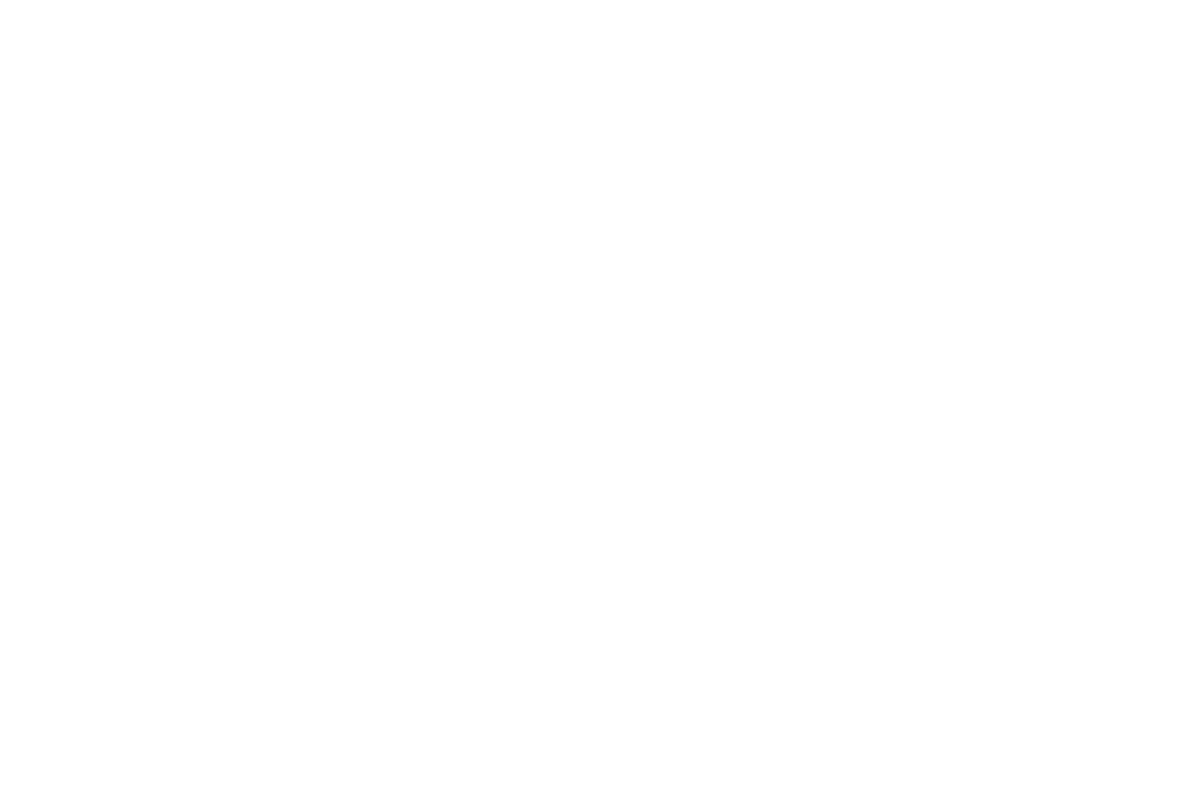
Режиссер считывает злободневность ситуаций, описанных драматургом. Прежде всего, город Калинов действительно жесток – и дело совсем не в слезах, льющихся за запорами. Это глухой провинциальный уголок России нулевых – начала десятых годов нынешнего века. Здесь по ночам грабят: двое молодых людей с тяжелыми сумками пытаются скрыться от милиции, которой население традиционно не доверяет, так что прохожий направляет стражей порядка в противоположную сторону, покрывая преступников. Небезопасно и гуляющим: Борису Григорьевичу (Юрий Шадрин), хлипкому молодому человеку в модных узеньких джинсах и малиновой толстовке, в темном переулке достается, кажется, ни за что от группы хулиганов. Но его очевидная инфантильность и хипстерская внешность не могут не спровоцировать калиновскую шпану на насилие.
Но, как во всяком темном царстве, неприглядные дела вершатся здесь так, чтобы все было шито да крыто. Лицемерие – вот страшнейший порок Калинова. Пока лихие молодчики избивают Бориса, экран транслирует запись прочувствованного выступления местного «представительного лица», в которое превращена странница Феклуша (Екатерина Мельдер). Чиновница невысокого ранга, заклеймив пороки в других местах, расписывает благолепие, царящее в городе, и добродетели, коими, как цветами, украшена Марфа Игнатьевна Кабанова (Елена Дзюба), представленная кем-то наподобие бизнесвумен или потенциальной политической фигуры. Совсем не старая привлекательная женщина в дорогих красных «лодочках» на высоких каблуках, она подчеркнуто социально активна и публично оделяет нищих, приведя на это мероприятие (а это именно мероприятие, освещаемое телевидением) всю семью. Нарядно одетые по такому случаю дети стоят с ней в одном ряду и привычным взором следят, как очередной убогий, перед встречей с благодетельницей с пристрастием досмотренный милицией, получает мятый пакет с гуманитаркой.
Сегодняшняя Кабаниха – вовсе не та мрачная мощная личность, что во времена Островского мучила своих детей, вымещая на них собственные тяжкие обиды и комплексы, и железной рукой понукала их идти «правильным» путем, указанным ей извращенным пониманием религиозно-нравственных основ жизни. Это просто блажная баба с тяжелым вздорным нравом, не слишком много внимания уделяющая родным. По сути, ей и дела нет ни до мямли Тихона (Михаил Чернов), ни до девки-оторвы Вари (Аделина Бухвалова), ни до экзальтированной нервной Катерины (Анна Ганжа): спектакль неожиданно отказывается от семейных болезненных уз, сковывавших домочадцев в пьесе, так что властная лютая мать больше не довлеет над ними.
Но тогда и подавленность Катерины не совсем понятна. В красавице молодой Кабановой нет ни трагизма, ни греха – это просто незрелая, слабохарактерная и узнаваемо современная юная дева, не знающая, что с собой делать, а потому и мучающаяся внутренней неудовлетворенностью. Это происходит не оттого, что такая уж она «зародилась горячая» – никакой экзальтации и тем более мистически-религиозного экстаза в ней нет и в помине, недаром в постановке опущены восторженные рассказы героини о ее житье в родительском доме. Как не вспомнить характеристики Дмитрия Писарева, утверждавшего, что «воспитание и жизнь не могли дать Катерине ни твердого характера, ни развитого ума». Это именно так, а потому и пытается она спрятаться в чемодане, с которым ее благоверный отбывает по делам. Рослая молодая женщина велика для сумки, молнию не застегнуть, и нелепое поведение, извинительное разве что для подростка, как нельзя более точно и полно описывает ее.
Но особенно невесело положение в семье Тихона – он просто мямля и тряпка, покорно сносящий унижения, хотя при такой матери (решенной, как уже было сказано, не в традиции трактовок Кабанихи как лютой властной барыни) не очень понятно, что превратило его в какого-то уж совсем невероятного тютю и дурачка. А вот его сестра Варя – натура страстная, и в то же время есть в ней некая виктимность, проявляемая, в первую очередь, в отношениях с Кудряшом (Константин Калашников). Отношения эти, разумеется, давно вышли из платонических пределов, и молодая женщина принимает приятеля полураздетой в ванне. В пластических этюдах парадоксально нет эротики, обнаженные тонкие девичьи руки вполне целомудренно обнимают избранника, и кажется, что Варвара – просто жертва, ищущая опору едва ли не в первом встречном человеке, пусть не очень-то и годящемся на эту роль.
Но Кудряш – хотя бы настоящий мужчина, чуть не единственный в этой версии Калинова. Не считать же, в самом деле, таковым Бориса – великовозрастного юношу бледного, наговаривающего отчет о своих сильных внутренних переживаниях на диктофон? Он выглядит нытиком и неумехой, и ругань Дикого (Павел Кошель) на племянника воспринимается в таком контексте совершенно иначе, нежели в пьесе. Все реакции его – детские, ведь он такой же неповзрослевший ребенок, как и Катерина. Этим двум недоразвитым юным существам самой судьбой велено составить нелепую несчастливую пару.
Незрелые, несамодостаточные Борис и Катерина – увы, дети наших дней. В их истории нет ни трагедии, ни – и это самое неожиданное – любви, о которой совершенно напрасно мямлит племянник Дикого. «Кто ж это знал, что нам за любовь нашу так мучиться с тобой!» – говорит он, сам уже давно с удивительной легкостью отрекшийся от женщины, с кем действительно просто очень хорошо погулял десять ночей. Куда же себя девать этой вялой инфантильной девушке, оставшейся совершенно одной? Так что действительно «русская Офелия, Катерина, совершив множество глупостей, бросается в воду и делает, таким образом, последнюю и величайшую нелепость» – притом единственно возможную.
Однако именно самоубийство нарушает целостность спектакля. Красавица Кабанова вдруг будто приходит в сознание, с отвращением и ужасом видит обитателей города Калинова, чинно усевшихся на фронтальном ряде стульев, – таких уверенных в себе, не собирающихся уступать инфантильным слабеньким созданиям вроде Катерины ни пяди жизненного пространства, – и решает «выйти из игры». Она снимает с себя тяжелое богатое бархатное платье, на глазах у зрителей переодевается в современный брючный костюм (можно трактовать эту внешнюю метаморфозу как внутреннее взросление, но, пожалуй, это будет самообольщением наподобие добролюбовского) и помирает без покаяния словно от сильнейшего нервного переживания. Впервые на лице героини появляется умиротворенная улыбка, выводимая на экран (признание Катерины в измене несколькими сценами ранее останавливали эту непрерывную трансляцию помехами в эфире), рука, судорожно дернувшись, сбрасывает в обрыв стул, и тут бы впору воскликнуть по-булгаковски: «Невидима и свободна!» Но свободна от чего? – Звучащая в заключительном эпизоде песня группы «Каспийский груз» намекает: от общества. Да неужели же оно убило несчастную Катю Кабанову?
Она была хилым растением, загубившим себя самостоятельно, и не при чем здесь ни свекровь, ни неудавшаяся любовь, ни – тем более! – «эта страна» из песни. В томской версии «Грозы» нет в героине Анны Ганжи ни страстности, ни нежности, ни даже истинного страдания. А, стало быть, одна ей дорога – в Волгу. «Грустно расставаться с светлою иллюзиею, – подытоживает как будто бы именно этот конкретный томский спектакль Дмитрий Писарев, – а делать нечего: пришлось бы и на этот раз удовлетвориться темною действительностью».
Драматична, хотя на удивление уже не столь безрадостна вторая работа Олега Молитвина – «Анна Каренина». «В какой-то момент я устал от пьес, стал думать: “Что же я не занимаюсь свободным творчеством? Надо взять роман и выбрать из него то, что совпадает с моим углом зрения”. Как бы – как бы! – свободы в таком материале больше, чем в драматургии. Процесс работы над ним похож на высекание из скалы скульптуры», – объясняет он обращение к произведению. Но высечь удалось явно не все.
Но, как во всяком темном царстве, неприглядные дела вершатся здесь так, чтобы все было шито да крыто. Лицемерие – вот страшнейший порок Калинова. Пока лихие молодчики избивают Бориса, экран транслирует запись прочувствованного выступления местного «представительного лица», в которое превращена странница Феклуша (Екатерина Мельдер). Чиновница невысокого ранга, заклеймив пороки в других местах, расписывает благолепие, царящее в городе, и добродетели, коими, как цветами, украшена Марфа Игнатьевна Кабанова (Елена Дзюба), представленная кем-то наподобие бизнесвумен или потенциальной политической фигуры. Совсем не старая привлекательная женщина в дорогих красных «лодочках» на высоких каблуках, она подчеркнуто социально активна и публично оделяет нищих, приведя на это мероприятие (а это именно мероприятие, освещаемое телевидением) всю семью. Нарядно одетые по такому случаю дети стоят с ней в одном ряду и привычным взором следят, как очередной убогий, перед встречей с благодетельницей с пристрастием досмотренный милицией, получает мятый пакет с гуманитаркой.
Сегодняшняя Кабаниха – вовсе не та мрачная мощная личность, что во времена Островского мучила своих детей, вымещая на них собственные тяжкие обиды и комплексы, и железной рукой понукала их идти «правильным» путем, указанным ей извращенным пониманием религиозно-нравственных основ жизни. Это просто блажная баба с тяжелым вздорным нравом, не слишком много внимания уделяющая родным. По сути, ей и дела нет ни до мямли Тихона (Михаил Чернов), ни до девки-оторвы Вари (Аделина Бухвалова), ни до экзальтированной нервной Катерины (Анна Ганжа): спектакль неожиданно отказывается от семейных болезненных уз, сковывавших домочадцев в пьесе, так что властная лютая мать больше не довлеет над ними.
Но тогда и подавленность Катерины не совсем понятна. В красавице молодой Кабановой нет ни трагизма, ни греха – это просто незрелая, слабохарактерная и узнаваемо современная юная дева, не знающая, что с собой делать, а потому и мучающаяся внутренней неудовлетворенностью. Это происходит не оттого, что такая уж она «зародилась горячая» – никакой экзальтации и тем более мистически-религиозного экстаза в ней нет и в помине, недаром в постановке опущены восторженные рассказы героини о ее житье в родительском доме. Как не вспомнить характеристики Дмитрия Писарева, утверждавшего, что «воспитание и жизнь не могли дать Катерине ни твердого характера, ни развитого ума». Это именно так, а потому и пытается она спрятаться в чемодане, с которым ее благоверный отбывает по делам. Рослая молодая женщина велика для сумки, молнию не застегнуть, и нелепое поведение, извинительное разве что для подростка, как нельзя более точно и полно описывает ее.
Но особенно невесело положение в семье Тихона – он просто мямля и тряпка, покорно сносящий унижения, хотя при такой матери (решенной, как уже было сказано, не в традиции трактовок Кабанихи как лютой властной барыни) не очень понятно, что превратило его в какого-то уж совсем невероятного тютю и дурачка. А вот его сестра Варя – натура страстная, и в то же время есть в ней некая виктимность, проявляемая, в первую очередь, в отношениях с Кудряшом (Константин Калашников). Отношения эти, разумеется, давно вышли из платонических пределов, и молодая женщина принимает приятеля полураздетой в ванне. В пластических этюдах парадоксально нет эротики, обнаженные тонкие девичьи руки вполне целомудренно обнимают избранника, и кажется, что Варвара – просто жертва, ищущая опору едва ли не в первом встречном человеке, пусть не очень-то и годящемся на эту роль.
Но Кудряш – хотя бы настоящий мужчина, чуть не единственный в этой версии Калинова. Не считать же, в самом деле, таковым Бориса – великовозрастного юношу бледного, наговаривающего отчет о своих сильных внутренних переживаниях на диктофон? Он выглядит нытиком и неумехой, и ругань Дикого (Павел Кошель) на племянника воспринимается в таком контексте совершенно иначе, нежели в пьесе. Все реакции его – детские, ведь он такой же неповзрослевший ребенок, как и Катерина. Этим двум недоразвитым юным существам самой судьбой велено составить нелепую несчастливую пару.
Незрелые, несамодостаточные Борис и Катерина – увы, дети наших дней. В их истории нет ни трагедии, ни – и это самое неожиданное – любви, о которой совершенно напрасно мямлит племянник Дикого. «Кто ж это знал, что нам за любовь нашу так мучиться с тобой!» – говорит он, сам уже давно с удивительной легкостью отрекшийся от женщины, с кем действительно просто очень хорошо погулял десять ночей. Куда же себя девать этой вялой инфантильной девушке, оставшейся совершенно одной? Так что действительно «русская Офелия, Катерина, совершив множество глупостей, бросается в воду и делает, таким образом, последнюю и величайшую нелепость» – притом единственно возможную.
Однако именно самоубийство нарушает целостность спектакля. Красавица Кабанова вдруг будто приходит в сознание, с отвращением и ужасом видит обитателей города Калинова, чинно усевшихся на фронтальном ряде стульев, – таких уверенных в себе, не собирающихся уступать инфантильным слабеньким созданиям вроде Катерины ни пяди жизненного пространства, – и решает «выйти из игры». Она снимает с себя тяжелое богатое бархатное платье, на глазах у зрителей переодевается в современный брючный костюм (можно трактовать эту внешнюю метаморфозу как внутреннее взросление, но, пожалуй, это будет самообольщением наподобие добролюбовского) и помирает без покаяния словно от сильнейшего нервного переживания. Впервые на лице героини появляется умиротворенная улыбка, выводимая на экран (признание Катерины в измене несколькими сценами ранее останавливали эту непрерывную трансляцию помехами в эфире), рука, судорожно дернувшись, сбрасывает в обрыв стул, и тут бы впору воскликнуть по-булгаковски: «Невидима и свободна!» Но свободна от чего? – Звучащая в заключительном эпизоде песня группы «Каспийский груз» намекает: от общества. Да неужели же оно убило несчастную Катю Кабанову?
Она была хилым растением, загубившим себя самостоятельно, и не при чем здесь ни свекровь, ни неудавшаяся любовь, ни – тем более! – «эта страна» из песни. В томской версии «Грозы» нет в героине Анны Ганжи ни страстности, ни нежности, ни даже истинного страдания. А, стало быть, одна ей дорога – в Волгу. «Грустно расставаться с светлою иллюзиею, – подытоживает как будто бы именно этот конкретный томский спектакль Дмитрий Писарев, – а делать нечего: пришлось бы и на этот раз удовлетвориться темною действительностью».
Драматична, хотя на удивление уже не столь безрадостна вторая работа Олега Молитвина – «Анна Каренина». «В какой-то момент я устал от пьес, стал думать: “Что же я не занимаюсь свободным творчеством? Надо взять роман и выбрать из него то, что совпадает с моим углом зрения”. Как бы – как бы! – свободы в таком материале больше, чем в драматургии. Процесс работы над ним похож на высекание из скалы скульптуры», – объясняет он обращение к произведению. Но высечь удалось явно не все.
Сосредоточиться на происходящем довольно сложно из-за инсценировки Ксении Никитиной, «нарезавшей» объемный роман на тонкие слои и перемешавшей их в трудно определяемом порядке. Постановка начинается проходом Анны (Аделина Бухвалова) по сцене с детской лошадкой-качалкой на веревочке: женщина с усилием тянет игрушку, которая воспринимается как груз воспоминаний о покинутой семье и в первую очередь о сыне. Затем следует эпизод родов – стало быть, сугубо семейная тема задана? Но тут же все эти логические построения опрокидывает бал: кружащиеся на тревожно-красном фоне одетые в черное пары дурачатся, ломаются, смеются, напоминая рисунки мирискусников, выполненные в технике силуэтов, – и восприятие зрителя меняется: речь пойдет о пустом и безжалостном светском обществе?
В объемном трехчасовом спектакле – как раз две генеральные линии. Первая – семейная тема, воспевающая традиционные ценности, представителем которых внезапно оказывается Алексей Каренин (Антон Антонов). Вторая – осуждение светского общества, решенного в постановке не как злая монолитная сила, а как группа (пусть и довольно большая) мелких завистливых вертлявых существ. Им все смешно, все любопытно, они неестественно хихикают, напропалую злословят, сладострастно обсуждают роман Анны и Вронского (Константин Калашников), становящийся для них предметом развлечения, но не более того. Пожалуй, из-за сплетен таких жалких шутов нельзя прийти в отчаяние и броситься под поезд, хотя настроение они вполне могут испортить. Трактовка, может, и не совсем толстовская, но довольно логично проведенная: Анне Аркадьевне не нужно никаких внешних воздействий, чтобы извести себя. Она вся снедаема внутренним беспокойством, у нее явно неприятный истеричный характер, а подавляющий благородством муж не может не служить ей постоянным укором даже не в том, что она нарушила все законы светские и божеские, а в том, что фатально ошиблась, предпочтя Каренину другого Алексея.
Но эта страстная женщина – чего стоит алая оборка на платье, пламенем охватывающая лилейную грудь, – предстает не как самостоятельная фигура, а, скорее, в качестве символа, хотя и парадоксально лишенного ореола трагедии. Зритель прослеживает ее путь в рассказах и мнениях других героев, наблюдает печальные и захватывающие сюжетные повороты в чужих действиях. В спектакле любовная линия решена в основном хореографически-музыкальными средствами: Вронский бессловесен на протяжении едва ли не всего действия, за исключением эпизода разговора с Дарьей Александровной (Татьяна Темная) о будущих детях, которым он жаждет честно дать свое имя, Анна прерывает молчание для истеричных оскорблений той же бедной Долли. Эта героиня представлена в постановке даже более привлекательной, чем в романе, доброй и хорошей, настоящей женой и матерью, напрасно обижаемой Стивой (Данила Дейкун) – роскошным сибаритом, за которым слуги ухаживают, точно за маленьким, сочным жуиром, жадным до жизни, еды, женщин, но не лишенным изящества.
Как ни крути, но персонажи, не лишенные дара речи, выглядят предпочтительнее немых символов. Законченным предстает образ Кити Щербацкой (Анастасия Золотарева): это милая бойкая девушка, капризная, импульсивная и ребячливая. Однако есть в ней и жесткость: как резко и почти зло отказывает она Левину (Дмитрий Янин) – серьезному и унылому в еще большей степени, нежели в романе, типу! Он выглядит таким тугодумом, так нелеп в своем мохнатом почти крестьянском тулупе, что, право слово, выйти за него замуж решительно невозможно! Она и не выходит – до поры, но Алексей Кириллович мимоходом разбивает ей сердце, танцуя с другой, так что Кити словно сорванный цветок падает на пол, лишь выйдя из бальной залы.
Но едва ли не самым положительным кажется Каренин – благородный, торжественный и привлекательный в своей сдержанности. Инсценировка забыла про некрасиво оттопыренные уши и злую машину (справедливости ради, эти уничижительные характеристики персонажа мы узнаем от Анны, а не от автора, так что режиссер вправе их игнорировать) и представляет Алексея Александровича тонким мягким чутким человеком, как будто и не рассуждавшим никогда о том, что «вопросы о ее чувствах и так далее – суть вопросы ее совести, до которой мне не может быть дела». Более того: он даже признается жене в любви, называя ее ласково Аннушкой. Так что именно он выражает идею, определяющую роман Толстого, – мысль семейную. В финале зрители встречают героя с дочкой в идиллических пейзажах поместья Левиных. Маленькая девочка четко называет свое имя – Анна Каренина, – и становится ясно, что жизнь продолжается, что юная Анна проживет ее лучше матери, и вообще счастье в том, чтобы жить для других, как несколько демагогично, но, безусловно, абсолютно правильно формулирует Константин Дмитриевич – а с ним и режиссер.
«Вообще, как режиссер выбирает материал? Его должно что-то обжигать, опалять, внутри должно екать. И возникает горение», – замечает Олег Молитвин. Это горение заметно в его спектаклях, пусть и не бесспорных. Присутствует оно и в яркой премьере Сойжин Жамбаловой, открывшей юбилейный сезон Томской драмы. Спектакль «Девять кругов», поставленный по мотивам «Ада» из «Божественной комедии» Данте Алигьери, прихотливо следует сюжетной линии гениальной книги, по-новому ее интерпретируя. Но одно остается неизменным: ощущение величайшего и труднейшего пути, по которому идет герой любого – и нашего тоже – времени, то теряя надежду, то вновь ее обретая, но всегда – преодолевая, казалось бы, непреодолимое.
В объемном трехчасовом спектакле – как раз две генеральные линии. Первая – семейная тема, воспевающая традиционные ценности, представителем которых внезапно оказывается Алексей Каренин (Антон Антонов). Вторая – осуждение светского общества, решенного в постановке не как злая монолитная сила, а как группа (пусть и довольно большая) мелких завистливых вертлявых существ. Им все смешно, все любопытно, они неестественно хихикают, напропалую злословят, сладострастно обсуждают роман Анны и Вронского (Константин Калашников), становящийся для них предметом развлечения, но не более того. Пожалуй, из-за сплетен таких жалких шутов нельзя прийти в отчаяние и броситься под поезд, хотя настроение они вполне могут испортить. Трактовка, может, и не совсем толстовская, но довольно логично проведенная: Анне Аркадьевне не нужно никаких внешних воздействий, чтобы извести себя. Она вся снедаема внутренним беспокойством, у нее явно неприятный истеричный характер, а подавляющий благородством муж не может не служить ей постоянным укором даже не в том, что она нарушила все законы светские и божеские, а в том, что фатально ошиблась, предпочтя Каренину другого Алексея.
Но эта страстная женщина – чего стоит алая оборка на платье, пламенем охватывающая лилейную грудь, – предстает не как самостоятельная фигура, а, скорее, в качестве символа, хотя и парадоксально лишенного ореола трагедии. Зритель прослеживает ее путь в рассказах и мнениях других героев, наблюдает печальные и захватывающие сюжетные повороты в чужих действиях. В спектакле любовная линия решена в основном хореографически-музыкальными средствами: Вронский бессловесен на протяжении едва ли не всего действия, за исключением эпизода разговора с Дарьей Александровной (Татьяна Темная) о будущих детях, которым он жаждет честно дать свое имя, Анна прерывает молчание для истеричных оскорблений той же бедной Долли. Эта героиня представлена в постановке даже более привлекательной, чем в романе, доброй и хорошей, настоящей женой и матерью, напрасно обижаемой Стивой (Данила Дейкун) – роскошным сибаритом, за которым слуги ухаживают, точно за маленьким, сочным жуиром, жадным до жизни, еды, женщин, но не лишенным изящества.
Как ни крути, но персонажи, не лишенные дара речи, выглядят предпочтительнее немых символов. Законченным предстает образ Кити Щербацкой (Анастасия Золотарева): это милая бойкая девушка, капризная, импульсивная и ребячливая. Однако есть в ней и жесткость: как резко и почти зло отказывает она Левину (Дмитрий Янин) – серьезному и унылому в еще большей степени, нежели в романе, типу! Он выглядит таким тугодумом, так нелеп в своем мохнатом почти крестьянском тулупе, что, право слово, выйти за него замуж решительно невозможно! Она и не выходит – до поры, но Алексей Кириллович мимоходом разбивает ей сердце, танцуя с другой, так что Кити словно сорванный цветок падает на пол, лишь выйдя из бальной залы.
Но едва ли не самым положительным кажется Каренин – благородный, торжественный и привлекательный в своей сдержанности. Инсценировка забыла про некрасиво оттопыренные уши и злую машину (справедливости ради, эти уничижительные характеристики персонажа мы узнаем от Анны, а не от автора, так что режиссер вправе их игнорировать) и представляет Алексея Александровича тонким мягким чутким человеком, как будто и не рассуждавшим никогда о том, что «вопросы о ее чувствах и так далее – суть вопросы ее совести, до которой мне не может быть дела». Более того: он даже признается жене в любви, называя ее ласково Аннушкой. Так что именно он выражает идею, определяющую роман Толстого, – мысль семейную. В финале зрители встречают героя с дочкой в идиллических пейзажах поместья Левиных. Маленькая девочка четко называет свое имя – Анна Каренина, – и становится ясно, что жизнь продолжается, что юная Анна проживет ее лучше матери, и вообще счастье в том, чтобы жить для других, как несколько демагогично, но, безусловно, абсолютно правильно формулирует Константин Дмитриевич – а с ним и режиссер.
«Вообще, как режиссер выбирает материал? Его должно что-то обжигать, опалять, внутри должно екать. И возникает горение», – замечает Олег Молитвин. Это горение заметно в его спектаклях, пусть и не бесспорных. Присутствует оно и в яркой премьере Сойжин Жамбаловой, открывшей юбилейный сезон Томской драмы. Спектакль «Девять кругов», поставленный по мотивам «Ада» из «Божественной комедии» Данте Алигьери, прихотливо следует сюжетной линии гениальной книги, по-новому ее интерпретируя. Но одно остается неизменным: ощущение величайшего и труднейшего пути, по которому идет герой любого – и нашего тоже – времени, то теряя надежду, то вновь ее обретая, но всегда – преодолевая, казалось бы, непреодолимое.
Драматург Клава Ильина создала оригинальную пьесу, отсылающую к структуре великой книги, использующую реминисценции и аллюзии, заимствующую героев, проходящих уже иной путь по все тем же вечным адовым кругам. Но теперь эта история рассказывает не о дороге к Богу, сфокусирована не на осуждении грехов и грешников, чьи поступки так подробно разбирал гений Нового времени, и адресована другой возрастной (да и мировоззренческой) категории людей. А именно – молодым: сегодняшний Данте, названный в программке Он (Михаил Чернов), – гораздо моложе своего предшественника.
Действие начинается прологом, разыгрываемым в торжественно-мрачном здании ЗАГСа, напоминающем пустой и неприютный вокзальный зал ожидания: темные высокие порталы дверей, свет, идущий, кажется, из мутноватых невидимых окон, сквозняк, гуляющий по помещению (художник Натали-Кейт Пангилинан). Здесь делают шаг в новую жизнь молодые пары, не до конца осознающие его важность. «Клянетесь ли всегда быть на стороне друг друга, если действия ваши не нарушают человеческих законов?» – спрашивает хабалистая циничная регистраторша (Олеся Казанцева), уже давно смирившаяся с тем, что никто из молодоженов ни на какие многозначительные намеки и предупреждения не реагирует. Вспыхивает люстра при обмене кольцами, и вместо райского блаженства Его и Ее (Екатерина Максимова) ждут совсем иные впечатления.
Как сорванный лист, летит в движущемся кругу невеста, сменившая белый наряд на алый, красный свитер надевает жених, становясь похожим на возрожденческие портреты Данте (вместо лаврового венца остроумно возникает повязка из золотистой ткани). Цветовую перекличку продолжает красная шапка Вергилия (Данила Дейкун) – потрепанного жизнью нашего современника-поэта с крыльями за плечами. Он – все еще ангел-проводник в тех местах, куда Алигьери привела божественная воля и собственный смятенный дух, а его невольного последователя – какое-то явно внешнее обстоятельство, не слишком четко прописанное в пьесе.
Да и вступает он на неизведанную территорию с неопределенными целями: кажется, это борьба за любовь и спасение едва рожденной семьи. Режиссер и драматург деликатно, но твердо убирают из повествования религиозный мотив. Иными стали не грехи – все различия внешни, – а отношение к ним и, конечно, люди. Это их волей в лимб помещены не некрещенные, а суетные. (Как еще определить не отрывающуюся от телевизора – в данном случае действительно «зомбоящика» – женщину, блогершу, истерично призывающую подписчиков по утрам пить горячую воду, и менеджера, навеки прикованного к компьютеру?) Эти измученные персонажи служат пока не слишком дидактичным напоминанием всем смотрящим о том, что́ в жизни истинно важно. С них же начинается параллельная история, вписанная в сложную структуру пьесы Клавы Ильиной, а именно рассказ о потенциальной судьбе главных действующих лиц. Как будет развиваться их семейный союз, что станет определяющим в поступках и чувствах, избегут ли они соблазнов, сгубивших несчастных обитателей Ада?
Режиссер умело выстраивает действо, держа темп и не сбиваясь с ритма: шумный эпизод с суетными завершался рэпом, энергично начитанным под соответствующую музыку (композитор Дахалэ Жамбалов), и хореографическим ансамблевым выступлением, а следующий решается в другой тональности – музыкальной, настроенческой, смысловой. Меняется и визуальный ряд: если в начале спектакля композиционные построения отсылали к полотнам мастеров Возрождения, то далее сценографическое оформление предлагает иные художественные референсы.
С каждым пройденным кругом путь героев становится труднее, атмосфера мрачнее. Тем не менее, спектакль не избавлен от комической репризности, физиологичности, вольных трактовок в отсутствие идейно-нравственной базы, демагогии. В него интересно и умно вплетены реальные истории с сильным социальным посылом, но далеко не все они убедительны и действуют на зрителя (то ли литературная обработка выхолостила из них нерв и жизненность, то ли артисты пока не нашли точек соприкосновения с текстом). Да и параллельно развивающаяся история молодоженов заводит постановку на сомнительный путь. Героиня спустя длительное время после свадьбы заболевает, теряет память, не узнает близких. Не то чтобы такое не случается в жизни, но все же сконструированность сюжетного хода бросается в глаза. Да еще и поведение в этой, прямо скажем, нестандартной ситуации молодого человека выглядит излишне экзальтированным. Разумеется, говорить о своей любви нужно – особенно когда все здоровы, чтобы, не дай бог, не упустить момент и не признаваться в чувствах на больничной койке, а то и на могиле, – и все-таки выбранный тон в стиле «они так любят друг друга!» лучше бы оставить телефильмам.
Более оправданной кажется жесткая рациональная интонация, звучащая в истории кентавра Несса (Константин Калашников) и чуть было не изнасилованной им, а потом обманутой Деяниры (Анна Ганжа). Поставленный как пластический этюд с покрывалом, эпизод сопровождается пением (режиссер оригинально интерпретирует присутствие на сцене артистов у микрофонов, так что они воспринимаются репликой античного хора). «Крылья» и «Я хочу быть с тобой», памятные депрессивной манерой Вячеслава Бутусова и прочно связанные с тяжелой для страны и людей эпохой, не только напоминают, что
Когда-то у нас было время, теперь у нас есть дела
Доказывать, что сильный жрет слабых, доказывать, что сажа бела, –
но и будят какую-то подспудную сильную трагическую эмоцию, мысль о непоправимости каждого нашего поступка, что поднимает происходящее на тот уровень размышлений и ассоциаций, на котором вполне достойно обращаться к дантовскому первоисточнику.
Разумеется, сценический финал не может совпасть с литературным. Измученного юного молодожена, не раз до того порывавшегося оставить свой скорбный путь, избивают обитатели Ада, а он в отчаянии, не веря, что может спасти любимую, предлагает остаться здесь вместо нее. Самопожертвование – высшее проявление любви, оно и помогает паре, преодолев нечеловеческие испытания, осознанно идти к счастью совместного будущего. Этот оптимистичный и очень предсказуемый вывод не то чтобы снижает впечатление от спектакля, но как будто колеблет уверенность в том, что к нему сводилось все действо даже по версии Сойжин Жамбаловой, а не то что Данте. Вообще порой кажется, что любви, понимаемой в постановке несколько обыденно, уделяется чрезвычайно много пристрастного внимания. Во всяком случае, тон для разговора о ней мог бы быть менее выспренним. Впрочем, влюбленные прошли свои адовы круги и устремились к свету – и слава богу. Тем более, что на подходе следующие юные герои, готовящиеся вступить на страшный путь.
В конце концов, человек сумел пройти путем преодоления – это ли не отрадный вывод, дарующий возвышенную эмоцию? Да еще и любовь победила – хотя, конечно, только в одном конкретно взятом случае, и каждый раз добиваться этой победы нужно заново. В повторяемости событий, вновь и вновь прогоняющих героев по девяти адским кругам, и заключен торжественный пафос и жизнеутверждающая сила спектакля Томского театра драмы, сыгранного так слаженно и вдохновенно.
Эти характеристики – слаженность и вдохновенность, – равно как и азарт, энергия, проникновение в текст и идею, эмоциональное подключение, сочувствие персонажам или хотя бы его попытка, поиск средств для убедительного их воплощения в целом отличают работу коллектива Томской драмы. Хочется верить – на каждом спектакле. Во всяком случае, для этого есть все предпосылки. Пусть им всегда сопутствуют заинтересованное внимание областного департамента культуры, финансовые и технические возможности, силы артистов и постановщиков, трудолюбие цехов и безграничная любовь зрителей, чтобы к следующему юбилейному сезону (шутка ли – театр уже 175 лет поднимает для публики занавес!) обсуждения постановок с приглашенными экспертами проходили еще горячее. А уверенность есть: нам всем будет что обсудить.
Действие начинается прологом, разыгрываемым в торжественно-мрачном здании ЗАГСа, напоминающем пустой и неприютный вокзальный зал ожидания: темные высокие порталы дверей, свет, идущий, кажется, из мутноватых невидимых окон, сквозняк, гуляющий по помещению (художник Натали-Кейт Пангилинан). Здесь делают шаг в новую жизнь молодые пары, не до конца осознающие его важность. «Клянетесь ли всегда быть на стороне друг друга, если действия ваши не нарушают человеческих законов?» – спрашивает хабалистая циничная регистраторша (Олеся Казанцева), уже давно смирившаяся с тем, что никто из молодоженов ни на какие многозначительные намеки и предупреждения не реагирует. Вспыхивает люстра при обмене кольцами, и вместо райского блаженства Его и Ее (Екатерина Максимова) ждут совсем иные впечатления.
Как сорванный лист, летит в движущемся кругу невеста, сменившая белый наряд на алый, красный свитер надевает жених, становясь похожим на возрожденческие портреты Данте (вместо лаврового венца остроумно возникает повязка из золотистой ткани). Цветовую перекличку продолжает красная шапка Вергилия (Данила Дейкун) – потрепанного жизнью нашего современника-поэта с крыльями за плечами. Он – все еще ангел-проводник в тех местах, куда Алигьери привела божественная воля и собственный смятенный дух, а его невольного последователя – какое-то явно внешнее обстоятельство, не слишком четко прописанное в пьесе.
Да и вступает он на неизведанную территорию с неопределенными целями: кажется, это борьба за любовь и спасение едва рожденной семьи. Режиссер и драматург деликатно, но твердо убирают из повествования религиозный мотив. Иными стали не грехи – все различия внешни, – а отношение к ним и, конечно, люди. Это их волей в лимб помещены не некрещенные, а суетные. (Как еще определить не отрывающуюся от телевизора – в данном случае действительно «зомбоящика» – женщину, блогершу, истерично призывающую подписчиков по утрам пить горячую воду, и менеджера, навеки прикованного к компьютеру?) Эти измученные персонажи служат пока не слишком дидактичным напоминанием всем смотрящим о том, что́ в жизни истинно важно. С них же начинается параллельная история, вписанная в сложную структуру пьесы Клавы Ильиной, а именно рассказ о потенциальной судьбе главных действующих лиц. Как будет развиваться их семейный союз, что станет определяющим в поступках и чувствах, избегут ли они соблазнов, сгубивших несчастных обитателей Ада?
Режиссер умело выстраивает действо, держа темп и не сбиваясь с ритма: шумный эпизод с суетными завершался рэпом, энергично начитанным под соответствующую музыку (композитор Дахалэ Жамбалов), и хореографическим ансамблевым выступлением, а следующий решается в другой тональности – музыкальной, настроенческой, смысловой. Меняется и визуальный ряд: если в начале спектакля композиционные построения отсылали к полотнам мастеров Возрождения, то далее сценографическое оформление предлагает иные художественные референсы.
С каждым пройденным кругом путь героев становится труднее, атмосфера мрачнее. Тем не менее, спектакль не избавлен от комической репризности, физиологичности, вольных трактовок в отсутствие идейно-нравственной базы, демагогии. В него интересно и умно вплетены реальные истории с сильным социальным посылом, но далеко не все они убедительны и действуют на зрителя (то ли литературная обработка выхолостила из них нерв и жизненность, то ли артисты пока не нашли точек соприкосновения с текстом). Да и параллельно развивающаяся история молодоженов заводит постановку на сомнительный путь. Героиня спустя длительное время после свадьбы заболевает, теряет память, не узнает близких. Не то чтобы такое не случается в жизни, но все же сконструированность сюжетного хода бросается в глаза. Да еще и поведение в этой, прямо скажем, нестандартной ситуации молодого человека выглядит излишне экзальтированным. Разумеется, говорить о своей любви нужно – особенно когда все здоровы, чтобы, не дай бог, не упустить момент и не признаваться в чувствах на больничной койке, а то и на могиле, – и все-таки выбранный тон в стиле «они так любят друг друга!» лучше бы оставить телефильмам.
Более оправданной кажется жесткая рациональная интонация, звучащая в истории кентавра Несса (Константин Калашников) и чуть было не изнасилованной им, а потом обманутой Деяниры (Анна Ганжа). Поставленный как пластический этюд с покрывалом, эпизод сопровождается пением (режиссер оригинально интерпретирует присутствие на сцене артистов у микрофонов, так что они воспринимаются репликой античного хора). «Крылья» и «Я хочу быть с тобой», памятные депрессивной манерой Вячеслава Бутусова и прочно связанные с тяжелой для страны и людей эпохой, не только напоминают, что
Когда-то у нас было время, теперь у нас есть дела
Доказывать, что сильный жрет слабых, доказывать, что сажа бела, –
но и будят какую-то подспудную сильную трагическую эмоцию, мысль о непоправимости каждого нашего поступка, что поднимает происходящее на тот уровень размышлений и ассоциаций, на котором вполне достойно обращаться к дантовскому первоисточнику.
Разумеется, сценический финал не может совпасть с литературным. Измученного юного молодожена, не раз до того порывавшегося оставить свой скорбный путь, избивают обитатели Ада, а он в отчаянии, не веря, что может спасти любимую, предлагает остаться здесь вместо нее. Самопожертвование – высшее проявление любви, оно и помогает паре, преодолев нечеловеческие испытания, осознанно идти к счастью совместного будущего. Этот оптимистичный и очень предсказуемый вывод не то чтобы снижает впечатление от спектакля, но как будто колеблет уверенность в том, что к нему сводилось все действо даже по версии Сойжин Жамбаловой, а не то что Данте. Вообще порой кажется, что любви, понимаемой в постановке несколько обыденно, уделяется чрезвычайно много пристрастного внимания. Во всяком случае, тон для разговора о ней мог бы быть менее выспренним. Впрочем, влюбленные прошли свои адовы круги и устремились к свету – и слава богу. Тем более, что на подходе следующие юные герои, готовящиеся вступить на страшный путь.
В конце концов, человек сумел пройти путем преодоления – это ли не отрадный вывод, дарующий возвышенную эмоцию? Да еще и любовь победила – хотя, конечно, только в одном конкретно взятом случае, и каждый раз добиваться этой победы нужно заново. В повторяемости событий, вновь и вновь прогоняющих героев по девяти адским кругам, и заключен торжественный пафос и жизнеутверждающая сила спектакля Томского театра драмы, сыгранного так слаженно и вдохновенно.
Эти характеристики – слаженность и вдохновенность, – равно как и азарт, энергия, проникновение в текст и идею, эмоциональное подключение, сочувствие персонажам или хотя бы его попытка, поиск средств для убедительного их воплощения в целом отличают работу коллектива Томской драмы. Хочется верить – на каждом спектакле. Во всяком случае, для этого есть все предпосылки. Пусть им всегда сопутствуют заинтересованное внимание областного департамента культуры, финансовые и технические возможности, силы артистов и постановщиков, трудолюбие цехов и безграничная любовь зрителей, чтобы к следующему юбилейному сезону (шутка ли – театр уже 175 лет поднимает для публики занавес!) обсуждения постановок с приглашенными экспертами проходили еще горячее. А уверенность есть: нам всем будет что обсудить.
Дарья Семёнова

