Мария Фомина: «Неординарные решения вызывают у меня азарт»
Мария Фомина, актриса Псковского театра драмы им. Пушкина, кажется классической лирической героиней – хрупкой, женственной, с нежным голосом и обаятельной улыбкой. Но в ее репертуаре – самые неожиданные роли: в современной ли драме, в новых ли интерпретациях известных пьес. Как говорит она сама, интереснее играть отрицательные образы, потому что они будят творческую фантазию. Потому и не случайно, что едва ли не чаще других в беседе звучало слово «возможность»: эта молодая отважная артистка открыта для талантливых экспериментов и поиска.
– Вас зовут так же, как известную актрису МХТ. Следите за ее творчеством?
– Моя однофамилица из МХТ все-таки Маруся, а я – Мария. Да и Фоминой я стала недавно – моя девичья фамилия Петрук. Не то чтобы я следила за ее творчеством, но, безусловно, в курсе, что есть такая артистка. А вообще я очень люблю читать актерские биографии, интервью, слежу за новостями кино, стараюсь смотреть спектакли. Жаль, к нам в Псков не часто приезжают другие театры.
– Вы уже с детства пошли по творческой стезе?
– В 7 лет меня отдали на музыку в школу искусств. Лет 5 я туда ходила, а потом подружка позвала меня в театральную студию. Интересно, что там я играла мужские роли. Настолько мне все это понравилось, так я втянулась в творчество, что через два года захотела пойти в театральный класс, куда и перевелась с музыкального отделения. За год до окончания я стала готовиться в Ярославский театральный институт, пошла на курсы. Чтобы было больше шансов поступить, готовила музыкальный номер: пела, аккомпанируя себе на пианино. Это была моя самая большая мечта – стать артисткой. Мне кажется, я всегда была мечтательным человеком, а это важно для профессии. Мне нравится вживаться в образ, придумывать другой характер – не люблю играть себя. Свои роли я наделяю качествами, подсмотренными в жизни и кино. При этом стараюсь не повторяться.
– Не пробовали поступать в столичные вузы?
– Конечно, о столице я всегда мечтала, но родители меня побоялись отпускать. Я очень домашняя была девочка, и они хотели, чтобы я училась в своем городе. Я счастлива, что окончила наш Ярославский институт. Хотя в Петербурге я поступала. Так получилось, что я ехала к знакомой на свадьбу и внезапно решила попробоваться в Академию (изначально в планах был только Ярославль). Дошла до третьего тура, «слетела», вернулась к себе. А уже у нас я очень хорошо показалась, понравилась мастеру. Прошла с первого раза, хотя, мне кажется, в этом деле очень многое зависит от удачи. Правда, удача – это как раз результат труда. Я вложилась в подготовку, и всё сложилось.
– Учеба давалась легко?
– Очень сложно! Мне было 17 лет, я не обладала опытом, который можно было бы «подложить», играя роль. Да и личной жизни еще никакой не было, влюблялась я заочно, как тут любовь играть? Но мне помогало богатое воображение, я могла много интересных штук напридумывать. Сейчас-то я понимаю, что достоверность появляется только с возрастом и опытом, чтобы и слезы настоящие потекли, и историю ты свою прожил. Зато мне легко давались этюды. Помню, ради одной такой придумки я поехала на дачу и привезла оттуда несколько мешков сена. Я все время пыталась удивить. В общем, было хоть и тяжело, но очень интересно.
– Почему по окончании вы не остались в Ярославле?
– Мы были целевым курсом при Волковском театре, должны были по окончании войти в труппу. Нашими мастерами были заслуженная артистка Галина Геннадьевна Крылова и художественный руководитель коллектива Владимир Георгиевич Боголепов. Но через год после нашего поступления он умер, другой мастер, тоже режиссер театра, Анатолий Александрович Бейрак, доучив наш курс, уволился, сменилось руководство, и новый директор брать нас уже не стал, хотя мы и были заняты в спектаклях: дипломная постановка шла на Малой сцене, а я была задействована в четырех названиях репертуара. В итоге я и мои однокурсники разъехались по всей стране по разным театрам.
Я сперва устроилась в Костромской драматический театр, но проработала там всего год: конкуренция была большая, у меня из заметных ролей была только Белоснежка в сказке и небольшие роли в других спектаклях. Я обзванивала театры Центральной и Северо-Западной России, а в Пскове как раз оказались вакансии. Очень боялась, как меня примут, поэтому позвала с собой однокурсницу Жанну Стремянову, с которой мы вместе работали в Костроме. Так и поехали – вместе. Но труппа оказалась доброй, к нам отнеслись с большой теплотой. Теперь это моя вторая семья, дом. Здесь замечательная атмосфера. Мне сразу же дали очень хорошие роли, у меня появилось больше возможностей. И всё так замечательно складывалось, что я осталась. Хотя поначалу я думала, что скучно сидеть в одном городе, и я буду работать в разных: год в одном, год в другом. Но у нас мне всё так нравилось, что я не могла от себя отпустить театр. Если бы у нас было плохо, конечно, я бы не задержалась здесь так долго! Но я не жалею ни о чем, и вот уже 15-й год выхожу на нашу сцену.
Я сперва устроилась в Костромской драматический театр, но проработала там всего год: конкуренция была большая, у меня из заметных ролей была только Белоснежка в сказке и небольшие роли в других спектаклях. Я обзванивала театры Центральной и Северо-Западной России, а в Пскове как раз оказались вакансии. Очень боялась, как меня примут, поэтому позвала с собой однокурсницу Жанну Стремянову, с которой мы вместе работали в Костроме. Так и поехали – вместе. Но труппа оказалась доброй, к нам отнеслись с большой теплотой. Теперь это моя вторая семья, дом. Здесь замечательная атмосфера. Мне сразу же дали очень хорошие роли, у меня появилось больше возможностей. И всё так замечательно складывалось, что я осталась. Хотя поначалу я думала, что скучно сидеть в одном городе, и я буду работать в разных: год в одном, год в другом. Но у нас мне всё так нравилось, что я не могла от себя отпустить театр. Если бы у нас было плохо, конечно, я бы не задержалась здесь так долго! Но я не жалею ни о чем, и вот уже 15-й год выхожу на нашу сцену.
– В каком амплуа вас увидели в театре?
– В институте мастер говорил, что мое амплуа «героиня». Когда я пришла в Псковский театр, первые 7 лет мне давали главные роли. Но у нас тогда часто менялись руководители, и все меня по-разному видели. В период руководства Василия Георгиевича Сенина я сыграла Гедду Габлер, а нынешний художественный руководитель Дмитрий Дмитриевич Месхиев увидел меня в лирическом амплуа – и я стала Елизаветой Ивановной в «Пиковой даме». Но вообще у меня были абсолютно разные роли: стервозная Юля в «Божьих коровках», утонченная одухотворенная Екатерина в спектакле «Танец Дели», глубокая и романтичная Александра в «Фантазиях Фарятьева» и другие. Та же Гедда Габлер совершенно на меня не похожа: она была очень эксцентричная, нервная, что называется, «оголенный нерв». Мне самой всегда больше нравились отрицательные образы – в противоположность себе. Придумывать что-то отличное от себя гораздо интереснее. Хочется пробовать то, что еще никогда не играла. Надеюсь, у меня будут такие возможности.
– Гедда Габлер – роль знаковая?
– Огромное счастье – сыграть в таком материале. За 16 лет моей работы в театре это самая большая роль. Я выходила на сцену, проживала три часа спектакля, возвращалась за кулисы и понимала: все-таки я – абсолютно не такой человек. Я как будто надевала маску, позволявшую мне творить что угодно. Моя Гедда была неземная, непредсказуемая и в чем-то сумасшедшая женщина, еще властная, как бы возвышающаяся над всеми. Конечно, у нее скорее отрицательный характер, и все же она – жертва. Героиня пытается сопротивляться окружающим, идет одна против общества, не понимающего и не принимающего ее. Со всеми она в конфликте, потому что у нее свое видение мира, свои идеалы. Поэтому она и решает уйти из жизни – от быта, который она презирает.
Мне очень повезло с Викторией Луговой – режиссером с философским мышлением. Она подробно разбирала со мной эту роль: вплоть до поворота головы, до самого мелкого движения. Без нее я бы не справилась. Она вложила в работу всю себя, вела меня от и до. Характер, поступки персонажа, реакции – мы просчитали всё. Мы репетировали полгода. Для того, чтобы сыграть Гедду, потребовалось много физических сил, выносливости. Мне казалось, что за один спектакль я теряю год жизни. Но эту роль и надо играть на разрыв аорты, чуть ли не умереть на сцене. Я тратила много эмоций, ведь у героини часто случаются истерики со слезами. Было много сложной пластики, опасных трюков, я ходила по спинкам стульев, прыгала со стола, поэтому к премьере вся была в синяках: приходилось и падать, и на коленях ползать. Думаю, это был лучший период в моей творческой жизни.
Мне очень повезло с Викторией Луговой – режиссером с философским мышлением. Она подробно разбирала со мной эту роль: вплоть до поворота головы, до самого мелкого движения. Без нее я бы не справилась. Она вложила в работу всю себя, вела меня от и до. Характер, поступки персонажа, реакции – мы просчитали всё. Мы репетировали полгода. Для того, чтобы сыграть Гедду, потребовалось много физических сил, выносливости. Мне казалось, что за один спектакль я теряю год жизни. Но эту роль и надо играть на разрыв аорты, чуть ли не умереть на сцене. Я тратила много эмоций, ведь у героини часто случаются истерики со слезами. Было много сложной пластики, опасных трюков, я ходила по спинкам стульев, прыгала со стола, поэтому к премьере вся была в синяках: приходилось и падать, и на коленях ползать. Думаю, это был лучший период в моей творческой жизни.
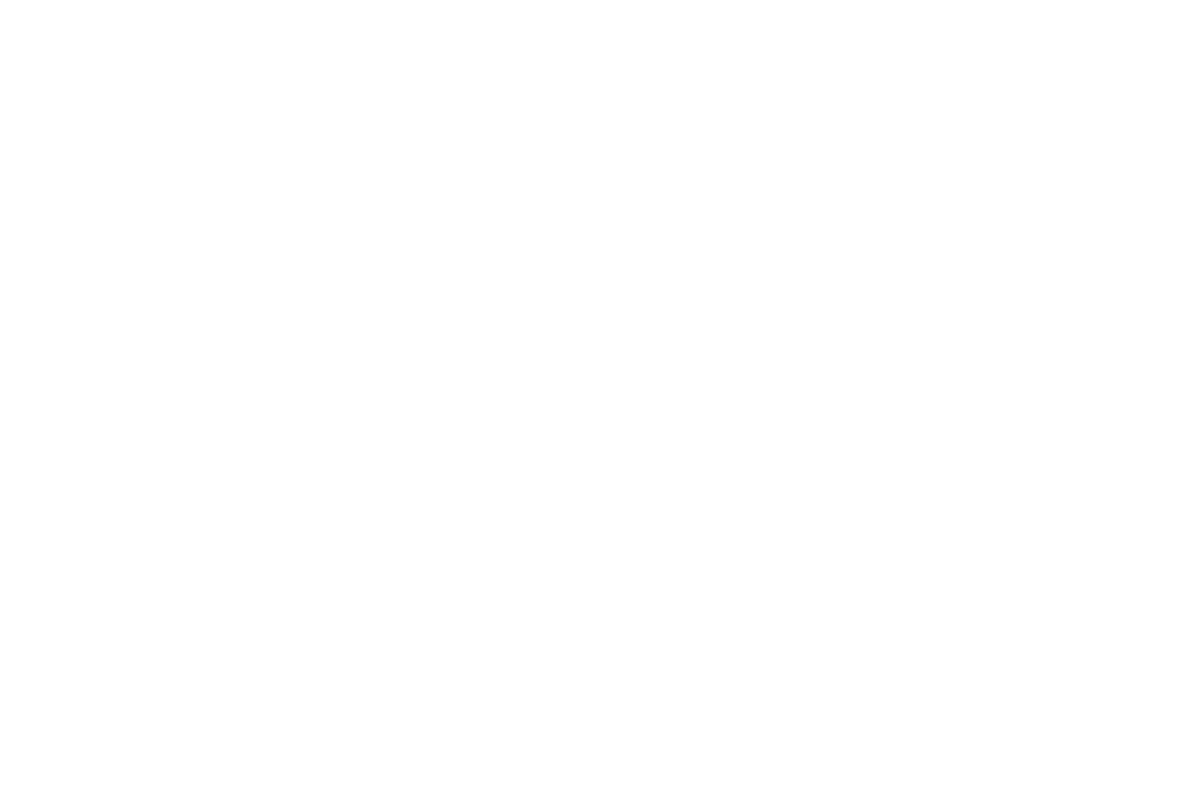
– Свой первый выход на псковскую сцену помните?
– Впервые это произошло в достаточно большой роли Амалии в «Убийстве Гонзаго». Мне очень нравилась эта постановка и игра артистки, которую я заменила (она тоже выпускница Ярославского института и в тот момент как раз ушла в декрет). Я вводилась по видеозаписи. Эта работа стала одной из моих любимых: в ней были танцы и много пластики – замечательно! Жалею, что ее сняли с репертуара. Должна сказать, что, когда я только вошла в труппу, меня практически сразу стали задействовать во многих спектаклях, я дома не сидела. Мы все время что-то репетировали. Но через год театр ушел на ремонт, репетиции проходили на разных площадках: на радиозаводе, в колледже культуры – да где мы только не были! Спектакли наши шли в Филармонии. Два года мы так существовали...
– В театре имени Пушкина должен быть какой-то особенный Пушкин. Расскажите о работе в «Пиковой даме».
– Елизавета Ивановна – это вводная роль, до меня ее играли две актрисы. Я решила сделать свою героиню скромной, женственной, милой. Она действительно девушка из пушкинских времен. Наивная, она мечтает о любви, верит в идеалы, но встречает расчетливого Германна. У нас достаточно классическая постановка, нет возрастного ограничения, на нее приходят и школьники со студентами. Я заметила, что со вводом двух замечательных артистов на роль Германна – Александра Овчаренко и Алексея Ухова – «Пиковая дама» заиграла другими гранями. И даже когда на спектакле присутствуют учащиеся, в зале удивительно тихо, никто не переговаривается, как это случалось иногда раньше. Все смотрят, не отрываясь, а потом стоя аплодируют. Я поняла, что при усилии актеров и непоседливых учеников можно увлечь, вовлечь в действие. Так что дело совсем не в зрителях, а в спектакле и исполнителях. Мы сидим на сцене уже после второго звонка и слышим непрерывный гул голосов, но стоит нам начать – и воцаряется тишина.
– А как вы относитесь к современным трактовкам классики?
– По сути, из классических постановок у нас едва ли не одна «Пиковая дама». Довольно много в репертуаре работ по классическим произведениям, но поставленных на современный лад. Меня такие трактовки не смущают, если режиссер может их оправдать, не допускает пошлости и грубости. Неординарные решения вызывают у меня азарт. Когда все хорошо придумано, мне в удовольствие играть такие спектакли.
А если говорить про современную драматургию, то мое нутро противится, когда в тексте много вульгарности, сленга и мата, – такой материал я внутренне отторгаю. Но, скажем, в пьесу «Танец Дели», в которой я играла главную роль Екатерины, я была просто влюблена! С любовью произносила каждое слово. А вот «чернуху» совсем не люблю, поэтому произведения Василия Сигарева хоть и интересны, все-таки не моё. Мне нравится, когда на сцене создается прекрасный мир, а не история, в которой беспросветное настоящее и такое же будущее. Должна быть надежда на лучшее, чтобы зритель уходил из зала воодушевленным. Но, конечно, многое зависит от того, как написано и как поставлено. К примеру, из современных премьер мне был очень интересен сериал «Актрисы». Вот с таким материалом про наше время я бы с удовольствием поработала.
А если говорить про современную драматургию, то мое нутро противится, когда в тексте много вульгарности, сленга и мата, – такой материал я внутренне отторгаю. Но, скажем, в пьесу «Танец Дели», в которой я играла главную роль Екатерины, я была просто влюблена! С любовью произносила каждое слово. А вот «чернуху» совсем не люблю, поэтому произведения Василия Сигарева хоть и интересны, все-таки не моё. Мне нравится, когда на сцене создается прекрасный мир, а не история, в которой беспросветное настоящее и такое же будущее. Должна быть надежда на лучшее, чтобы зритель уходил из зала воодушевленным. Но, конечно, многое зависит от того, как написано и как поставлено. К примеру, из современных премьер мне был очень интересен сериал «Актрисы». Вот с таким материалом про наше время я бы с удовольствием поработала.
– Зато вам удалось соприкоснуться с таким интересным материалом, как «Лягушки» по роману китайского писателя Мо Яня. Как проходила работа с режиссером спектакля Никитой Кобелевым?
– С Никитой Викторовичем мы познакомились на лаборатории в нашем театре: я была занята в его работе «Четыре дня». По первому впечатлению он показался мне очень требовательным и строгим: работает в полную силу, поблажек не дает, перерывов у нас практически не было, расслабиться не получается. Но, когда он приехал на постановку «Лягушек», я поняла, что он совсем другой. Может, потому что времени было больше – мы репетировали три месяца. Кобелев хоть и «застраивает» мизансцены, но при этом не ограничивает свободу артиста, приветствует все наши придумки, подробно разбирает материал, сочиняет вместе с артистом. Для него важны даже малейшие нюансы в интонации. На сценическую неправду он реагирует остро.
В «Лягушках» у меня три небольших роли, причем в одной из них – всего одна трагическая фраза: мою героиню ведут на аборт (рассказывается о том периоде истории Китая, когда семьи не могли рожать больше одного ребенка), и ей приходится на это согласиться, иначе ее мужа посадят в тюрьму. Никита Викторович даже небольшой этот эпизод не оставил без внимания и подробно работал над ним, потому что он сразу не получался, а для этого режиссера важна каждая деталь в спектакле. В нем множество персонажей, и каждому уделялось достаточно внимания. Кобелев хотел, чтобы даже второстепенные герои запомнились зрителю. Благодаря его находкам и подсказкам мои роли тоже стали заметными на сцене.
В «Лягушках» у меня три небольших роли, причем в одной из них – всего одна трагическая фраза: мою героиню ведут на аборт (рассказывается о том периоде истории Китая, когда семьи не могли рожать больше одного ребенка), и ей приходится на это согласиться, иначе ее мужа посадят в тюрьму. Никита Викторович даже небольшой этот эпизод не оставил без внимания и подробно работал над ним, потому что он сразу не получался, а для этого режиссера важна каждая деталь в спектакле. В нем множество персонажей, и каждому уделялось достаточно внимания. Кобелев хотел, чтобы даже второстепенные герои запомнились зрителю. Благодаря его находкам и подсказкам мои роли тоже стали заметными на сцене.
– Как реагируют зрители на эту постановку?
– Несмотря на 4-часовую длительность, зритель очень хорошо принимает этот спектакль. В нем два антракта, но никто не расходится, в финале все стоя аплодируют. Женщины часто плачут, ведь они узнают знакомые проблемы. Сюжет развивается с 1950-х годов и до сегодняшних дней. И в наше время у героев уже другие беды: они и хотели бы рожать больше детей, да не могут, и приходится обращаться в центры планирования семьи. Получилось неожиданно актуальное высказывание.
«Лягушки» принесли нам 8 номинаций на «Золотую Маску», и мы почувствовали, что о нас заговорили в театральном мире. Но это не единственный спектакль, номинированный на эту престижную премию, – были еще «Ревизор», «Река Потудань», «Морфий». Мы очень гордимся тем, что две наши артистки и главный художник Александр Стройло получили «Маски». Я рада, что выбрала Псковский театр, потому что сейчас он вышел на новый творческий уровень. Теперь у нас есть больше возможностей приглашать интересных режиссеров.
«Лягушки» принесли нам 8 номинаций на «Золотую Маску», и мы почувствовали, что о нас заговорили в театральном мире. Но это не единственный спектакль, номинированный на эту престижную премию, – были еще «Ревизор», «Река Потудань», «Морфий». Мы очень гордимся тем, что две наши артистки и главный художник Александр Стройло получили «Маски». Я рада, что выбрала Псковский театр, потому что сейчас он вышел на новый творческий уровень. Теперь у нас есть больше возможностей приглашать интересных режиссеров.
– Что можете отметить из своих недавних работ?
– В декабре у меня была премьера в вокальном спектакле «Перекресток», в котором я себя попробовала в качестве певицы. Такой у меня был дебют. В этой постановке Дмитрия Дмитриевича Месхиева мы поем романсы XIX века, есть и современные произведения. В программе – песни о несчастной любви. Дуэты, трио, квартеты, живая музыка, всё разложено по вокальным партиям – очень интересно. Я занята в семи номерах. Для меня это новый опыт, а он всегда радостный.
С нами работала педагог по вокалу Елена Евгеньевна Обухова. Здорово, что я получила возможность с ней заниматься, развить свои вокальные данные. Мои коллеги уже выступали в таком жанре, а для меня все было впервые и очень волнительно. Я первый раз попробовала петь дуэтом. Даже не представляла, как справиться, когда каждый поет свое, музыканты аккомпанируют, а тебе важно не сбиться со своей партии. Иногда мозг просто «взрывался», но все очень неплохо получилось, зрители хорошо нас принимают. Работа началась еще два года назад, но выпуск по стечению обстоятельств откладывался.
С нами работала педагог по вокалу Елена Евгеньевна Обухова. Здорово, что я получила возможность с ней заниматься, развить свои вокальные данные. Мои коллеги уже выступали в таком жанре, а для меня все было впервые и очень волнительно. Я первый раз попробовала петь дуэтом. Даже не представляла, как справиться, когда каждый поет свое, музыканты аккомпанируют, а тебе важно не сбиться со своей партии. Иногда мозг просто «взрывался», но все очень неплохо получилось, зрители хорошо нас принимают. Работа началась еще два года назад, но выпуск по стечению обстоятельств откладывался.
– Читала, что вы занимаетесь айкидо. Какие еще у вас увлечения?
– Я занималась айкидо совсем чуть-чуть, потому что поняла, что это достаточно травмоопасный вид спорта. Не очень бы хотелось выходить на сцену с подбитым глазом! Я решила себя обезопасить и ушла. Зато я занимаюсь йогой, она помогает мне расслабиться. Танцую зумбу – это весело и зажигательно. Нравится ходить в бассейн, фитнес-клуб, на джампинг – себя нужно держать в форме. Еще люблю читать книги по психологии, смотреть старые фильмы, начиная от немого кино и до 90-х годов, пересмотрела огромное количество. Мне кажется, увлечения должны помогать в профессии. И, конечно, люблю путешествовать, бывать в разных городах, посещать музеи.
– И гастролировать?
– Гастролировать хотелось бы больше. Иногда нам сообщают о предстоящей поездке, а потом она по некоторым обстоятельствам срывается – бывает очень обидно, ведь я уже себе намечтала путешествие. Но мы ездим, этой осенью были на гастролях в Санкт-Петербурге, в Ижевске. А так вспоминаю замечательную гастрольную неделю, когда мы поехали в Новороссийск, Севастополь и Екатеринбург. Это была сказка! Понравилось и на гастролях в Астрахани. Интересно смотреть, как в разных городах на спектакли реагирует зритель. Например, в Луганске был удивительно теплый прием. Бывает так, что постановки, любимые в Пскове, где-то принимаются сдержаннее, и наоборот. Публика везде разная. И атмосфера городов тоже. Несмотря на недостаток времени, мы на гастролях стараемся сходить в музеи, все успеть посмотреть.
Также осенью в Александринском театре мы показывали «Лягушек». Выступать на исторической сцене – огромное счастье, невероятное! Я стояла за кулисами, и мне казалось, что я нахожусь в храме. Такая там «намоленная» атмосфера! Ощущение, что все артисты, когда-либо там игравшие, помогают всеми силами, питают своей энергетикой, чтобы у тебя спектакль прошел идеально.
Также осенью в Александринском театре мы показывали «Лягушек». Выступать на исторической сцене – огромное счастье, невероятное! Я стояла за кулисами, и мне казалось, что я нахожусь в храме. Такая там «намоленная» атмосфера! Ощущение, что все артисты, когда-либо там игравшие, помогают всеми силами, питают своей энергетикой, чтобы у тебя спектакль прошел идеально.
– Что особенно важно отметить, говоря о Псковском театре?
– Мне нравится, что у нас ни один спектакль не похож на другой. На них работали кардинально разные режиссеры, поэтому получилось колоссальное разнообразие. Каждый найдет что-то свое. Я слышала, что к нам приезжают зрители не только из Петербурга, но даже из Москвы. Когда я не занята в постановке, я сама прихожу в зрительный зал и смотрю. После просмотра «Маленьких трагедий» я вышла в полном восторге с мыслью: «Неужели это наш театр?!» На такие спектакли хочется ходить не один раз. Конечно, в этом заслуга нашего руководителя. Дмитрий Дмитриевич добился нашего объединения с Александринским театром (теперь мы – его филиал), соответственно, выросло финансирование, мы смогли позволить себе приглашать интересных мастеров, делать хорошие декорации и костюмы. Все стало красивее и зрелищнее. Теперь мне бы хотелось, чтобы наш коллектив чаще ездил на фестивали и гастроли, чтобы стать заметнее для публики в разных регионах. Пусть будет больше постановок, режиссеров, новых побед, пусть растет количество площадок. У нас есть для этого все возможности.
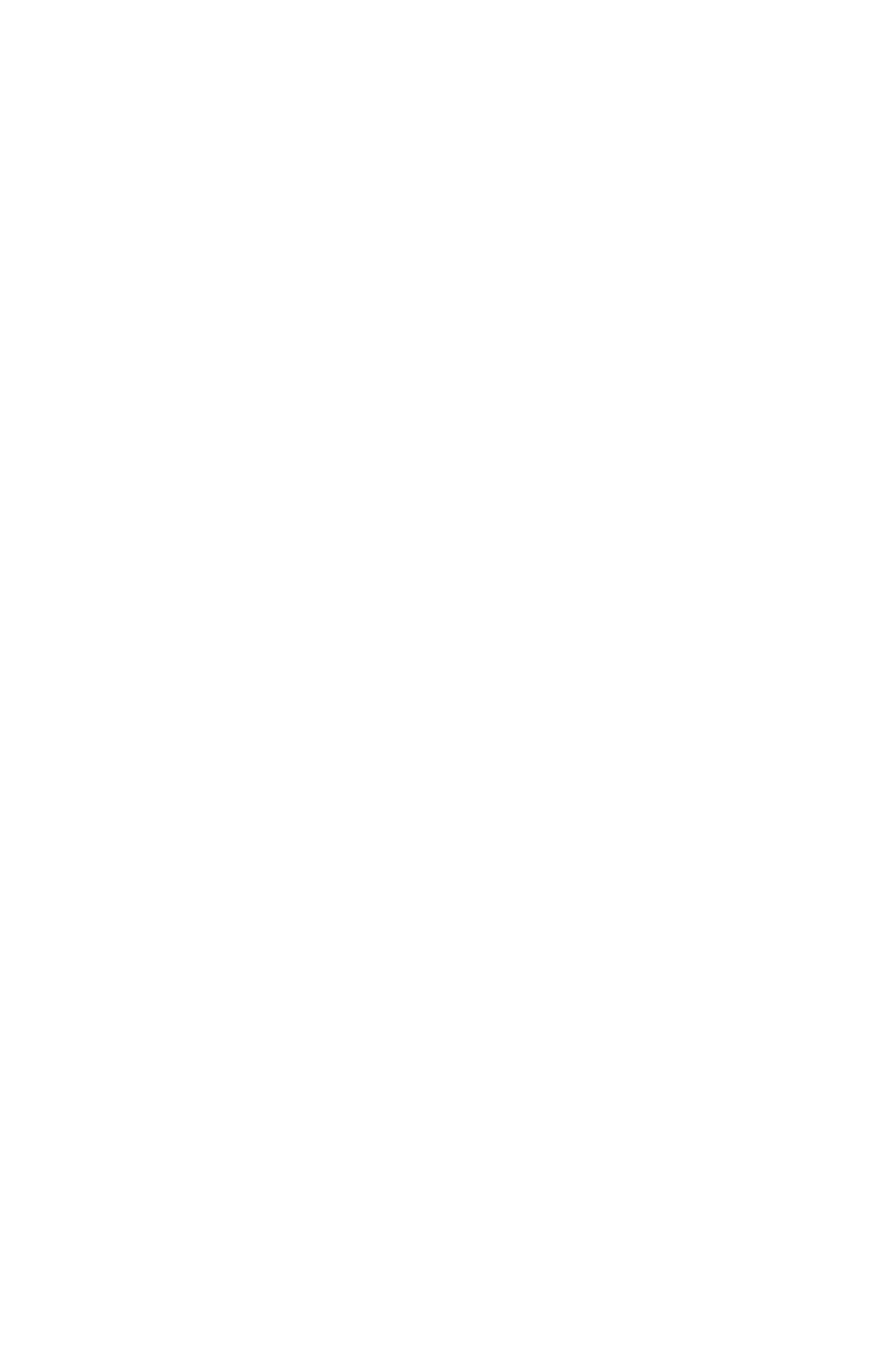
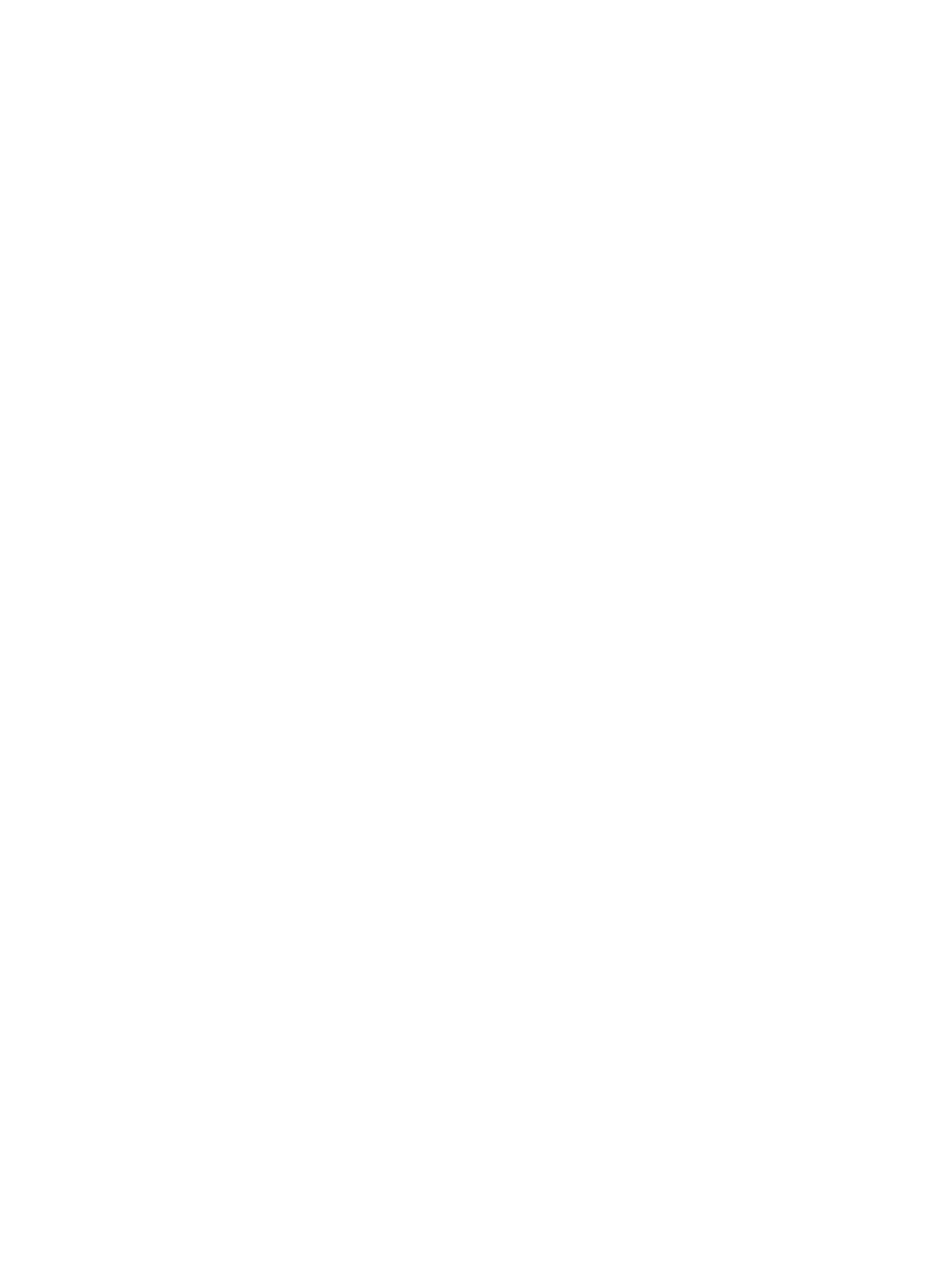
Дарья Семёнова

