Хава Ахмадова:
«Театр должен быть честным»
«Театр должен быть честным»
В конце августа в Москве состоялись гастроли Чеченского государственного академического драматического театра им. Нурадилова: в рамках фестиваля «Театральный бульвар» прошел показ драмы «Выше гор», а зрители Театра им. Евгения Вахтангова увидели постановки «Кровавая свадьба» и «Бож-Али». Художественный руководитель и директор ЧГАДТ Хава Лолиевна Ахмадова – о спектаклях коллектива, взаимопонимании, востребованности театра в республике и его месте в культуре Чечни и всей нашей страны.
– Грозный объявлен культурной столицей России 2025 года. Накладывает ли это дополнительные обязательства на Чеченский драматический театр?
– Город Грозный и вся Чеченская Республика живут в таком бешеном темпе и ритме, что у нас вообще нет ни свободных дней, ни неважных, незнаменательных событий. Мне кажется, в этом году все идет, как и шло, но вот ответственность мы чувствуем особенную. Сейчас к нам более пристальное внимание, больше приезжает туристов и творческих коллективов. Ярославский театр драмы им. Волкова был у нас в нынешний год своего 275-летия (соответственно, мы с гастролями ездили в Ярославль). А теперь мы в Москве, в Театре им. Евгения Вахтангова. Также мы выступили 28 августа в рамках фестиваля «Театральный бульвар» на Покровском бульваре. И уже 21 сентября в столице нашей республики начинается VI фестиваль национальных театров «Федерация», проводимый Союзом театральных деятелей России. Мы ждем очень много коллективов из разных регионов. Большим подарком для нас является еще и приезд в качестве почетного гостя Театра Олега Табакова со спектаклем «Матросская тишина», который будет сыгран дважды в рамках этого масштабного форума. Московский академический музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко привезет «Евгения Онегина» – и это тоже подарок.
Так что культурная жизнь у нас бурлит всегда, но в этом году мы более собраны и дисциплинированы. Мы не просто делаем свое дело, потому что нам это интересно, а работаем с пониманием, что на нас смотрят. Все-таки культурная столица!
Так что культурная жизнь у нас бурлит всегда, но в этом году мы более собраны и дисциплинированы. Мы не просто делаем свое дело, потому что нам это интересно, а работаем с пониманием, что на нас смотрят. Все-таки культурная столица!
– Насколько театр востребован сегодня в республике?
– В советское время в театре были спектакли аншлаговые, а были и такие, где в зале сидело несколько человек. И тем не менее у нас был свой зритель. Но после известных трагических событий 1994-1996, а потом и 1999 годов мы его растеряли, потому что было не до зрелищ, а до хлеба. Кто-то уехал, кто-то погиб, другие просто постарели или перестали куда-то выходить. Когда республика стала возрождаться, мы начали воспитывать нового зрителя. Это было непросто: мы потеряли 20 лет – целое поколение. Раньше к нам приходила образованная молодежь, учившаяся в университетах, а в связи с трагической ситуацией возник большой пробел в образовании. Дети ходили в холодные палаточные неотапливаемые школы на территории Карабулака и Слепцовской в Ингушетии (там и мои дети учились, от холода, не снимая курток во время занятий, так что я все это знаю). Конечно, они недоучились. Я понимала, что нам всем многое надо догнать. Театры в других регионах развивались, а мы начинали с начала. (Судьба у нашего народа такая: мы как будто все время начинаем жизнь с начала).
Возглавив театр, я сразу поняла: очень сложно будет. Скажу, как есть: публика к нам пришла странная. Люди ходили по залу, говорили по телефону во время спектакля. Приходилось устраивать ликбез, выходить перед началом спектаклей и объяснять, чего нельзя делать. И за 10 лет мы сумели воспитать своего зрителя. Подростки, когда-то пришедшие к нам впервые, выросли и уже знают, как себя вести. Не могу сказать, что у нас всегда аншлаги, но ведь и город наш небольшой, да и вся республика. Такой массовости, как в столице, нет. Сыграли постановку – в лучшем случае еще 30 раз она соберет зал, а потом ее надо ставить на паузу. Ходят-то к нам одни и те же. Но да это и везде в регионах и республиках так.
Возглавив театр, я сразу поняла: очень сложно будет. Скажу, как есть: публика к нам пришла странная. Люди ходили по залу, говорили по телефону во время спектакля. Приходилось устраивать ликбез, выходить перед началом спектаклей и объяснять, чего нельзя делать. И за 10 лет мы сумели воспитать своего зрителя. Подростки, когда-то пришедшие к нам впервые, выросли и уже знают, как себя вести. Не могу сказать, что у нас всегда аншлаги, но ведь и город наш небольшой, да и вся республика. Такой массовости, как в столице, нет. Сыграли постановку – в лучшем случае еще 30 раз она соберет зал, а потом ее надо ставить на паузу. Ходят-то к нам одни и те же. Но да это и везде в регионах и республиках так.
– В южных регионах нашей страны театр, как правило, не является культурным флагманом.
– Вы правы абсолютно, на Северном Кавказе отношение к нему не такое, как к песенному или хореографическому творчеству. Мы любим петь и танцевать – вот это наше! А театр несколько чужд исламской культуре вообще. Соответственно, и мы как мусульмане очень трудно понимаем и постигаем театр. Но возник же он в советское время после революции. По официальной версии – в 1931 году, по неофициальной – в 1924. Конечно, это были наивные одноактные постановки на 30 минут, и все-таки люди приходили смотреть, как артисты играют, говорят не от своего лица, что само по себе тогда казалось странным. В дальних горных районах, где не было электричества, где не проезжала машина, актеры выступали, приезжая на повозках, приобщали жителей к искусству. И в итоге все у них получилось. Это заслуга наших предшественников. А в будущем году нашему театру исполнится 95 лет. И сколько всего было за этот период! Выселение в Казахстан в 1944 году, возвращение в 1957, 1991-й, когда к власти пришли ичкерийцы (сторонники самопровозглашенного государственного образования, существовавшего после распада СССР на территории бывшей Чечено-Ингушской АССР – прим. Д.С.). Они же все запретили тогда: какой театр! Потом была война в 1994, потом опять в 1999... И всегда нам приходилось все начинать заново. Представляете, как народ должен любить даже не театр и искусство, а саму жизнь, чтобы всегда ее возрождать. Наши люди так хотят жить, так хотят наверстать упущенное! И сразу же по окончании боевых действий наш президент, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров, сказал: «Без культуры нет нации». Тогда все надо было строить: больницы, университеты. Но он первым делом вернул на родину из Нальчика ансамбль «Вайнах» и Театр им. Нурадилова. Потому что людям нужна культура! Точно так было и в то время, когда из Казахстана возвращались на родную землю чеченцы и ингуши: первые эшелоны были заполнены актерами, певцами, танцорами и музыкантами. Это правильно, потому что они поднимают дух.
– Самое тяжелое время уже позади, и вот вы в столице представляете свой театр. По какому критерию выбирались спектакли для нынешних московских гастролей?
– В рамках фестиваля «Театральный бульвар» мы сыграли эпическую драму «Выше гор». Вернее, ее сокращенную версию: выступали на площади, надо было многое перестраивать, сокращать. Мы оставили больше зрелищных и ярких картин. Но спектакль от этого хуже не стал, нас очень тепло зрители принимали. Я была потрясена тем, как люди внимательно смотрели! Мне кажется, чтобы познакомить публику с чеченским народом, самое лучшее – показать спектакль с красивым фольклорным сюжетом, свои обычаи, традиции.
А в Театр им. Вахтангова мы привезли два абсолютно разных спектакля абсолютно разных жанров – но и весь наш репертуар таков. Мы всем интересуемся, играем всё: у нас идет и мировая классика, и русская, и национальная драматургия. Есть и военно-патриотические постановки. Мы так любим эту жизнь, что хотим попробовать всё-всё-всё!
В первый вечер мы показали «Кровавую свадьбу» – яркий красивый спектакль в постановке Романа Мархолиа. Эта трагедия Лорки когда-то была в репертуаре Чеченского театра, в 1960-е она пользовалась большим успехом, ее привозили в Москву. Но и наш сегодняшний спектакль очень успешен. Он вошел в «Золотой фонд театральных постановок России», чем мы все невероятно счастливы. Испанская драматургия нам близка, возникает перекличка с нашим менталитетом и характером. Когда я создавала образ Матери, мне не приходилось примеривать роль испанки – нет, я играла чеченскую мать. Мне казалось, она абсолютно такая же, как я.
Что касается выбора «Бож-Али», то после драмы, конечно, хочется показать комедию. Мы ведь умеем не только страдать, но и смеяться на сцене. С чувством юмора у чеченцев все хорошо. Вообще у нас в репертуаре много комедий, но это – недавняя премьера (спектакль, долгие годы стоявший в репертуаре ЧГАДТ, возобновлён Хавой Ахмадовой – прим. Д.С.). Мы рискнули восстановить ее с новым молодым составом, и спектакль понравился зрителю, его приняли, и сейчас он собирает аншлаги. В нем много теплого, доброго, абсолютно человеческого юмора, неподдельных чувств. Все, как было, как я помню из детства. Глядя на Бож-Али, я всегда вспоминаю своего отца – он так похож на него! Да и маму вспоминаю. Думаю, многие скажут то же самое.
А в Театр им. Вахтангова мы привезли два абсолютно разных спектакля абсолютно разных жанров – но и весь наш репертуар таков. Мы всем интересуемся, играем всё: у нас идет и мировая классика, и русская, и национальная драматургия. Есть и военно-патриотические постановки. Мы так любим эту жизнь, что хотим попробовать всё-всё-всё!
В первый вечер мы показали «Кровавую свадьбу» – яркий красивый спектакль в постановке Романа Мархолиа. Эта трагедия Лорки когда-то была в репертуаре Чеченского театра, в 1960-е она пользовалась большим успехом, ее привозили в Москву. Но и наш сегодняшний спектакль очень успешен. Он вошел в «Золотой фонд театральных постановок России», чем мы все невероятно счастливы. Испанская драматургия нам близка, возникает перекличка с нашим менталитетом и характером. Когда я создавала образ Матери, мне не приходилось примеривать роль испанки – нет, я играла чеченскую мать. Мне казалось, она абсолютно такая же, как я.
Что касается выбора «Бож-Али», то после драмы, конечно, хочется показать комедию. Мы ведь умеем не только страдать, но и смеяться на сцене. С чувством юмора у чеченцев все хорошо. Вообще у нас в репертуаре много комедий, но это – недавняя премьера (спектакль, долгие годы стоявший в репертуаре ЧГАДТ, возобновлён Хавой Ахмадовой – прим. Д.С.). Мы рискнули восстановить ее с новым молодым составом, и спектакль понравился зрителю, его приняли, и сейчас он собирает аншлаги. В нем много теплого, доброго, абсолютно человеческого юмора, неподдельных чувств. Все, как было, как я помню из детства. Глядя на Бож-Али, я всегда вспоминаю своего отца – он так похож на него! Да и маму вспоминаю. Думаю, многие скажут то же самое.
– Чем привлекает зрителя сюжет из далекой советской действительности?
– Мне кажется, время, когда мы росли, – советский период 1970-1980-х – было сложным: не так хорошо, не так богато мы жили. Но мы тогда умели веселиться, умели жить и радоваться. Белое было белым, черное – черным. Жизнь была без фильтров, и мы с улыбкой встречали трудности. Мне хочется, чтобы молодое поколение увидело, как можно жить по-настоящему, радуясь мелочам.
– В «Кровавой свадьбе» поднимается в том числе и тяжелая тема братоубийственной войны. Но ваш спектакль о другом?
– «Кровавая свадьба» и об этом, конечно, тоже. Внутренний мир каждого зрителя позволяет ему открыть что-то свое в этом спектакле. Но для меня он действительно о другом – о более глобальном. О том, что нужно быть цельным. Не надо идти на поводу у своих страстей. Главное – то, что тебе дал Бог: жизнь, семья, мать и сын. Э́то ты должен ценить, а не искать чего-то на стороне. Луна и Нищенка, персонажи пьесы Гарсиа Лорки, – это бесы, опутавшие главных героев, так что те поддались страстям, за которыми не видно главного. Так ведь часто в жизни бывает. Страсть вспыхнула, спичка сгорела – и нет ничего. Любовь же – нечто совсем иное: это верность, долг, уважение. Это перспектива. Любовь к своей земле, своим родителям. Мне кажется, такая трактовка Романа Мархолиа – правильная. Наша постановка очень нравится молодым. Не знаю, что у них в головах, но они смотрят ее и уходят наполненными. Что-то в них остается. А если задело – значит, не зря мы играем.
– Вы уже не первый раз работаете с Романом Мархолиа. Чем он вам близок?
– Я доверяю своему чутью. Я сотрудничала с разными режиссерами, но Роман мне очень нравится как профессионал, нравится, как скрупулезно он работает. Ему важно все. Он никогда не пройдет мимо ни одной детали, не допускает небрежности, поверхностного подхода. Он органичен, внимателен к каждому движению, повороту, умеет заряжать артиста и заряжаться от него. Абсолютный трудоголик! Все время в движении, так что молодые артисты говорят: «Он намного нас старше – откуда в нем столько энергии?!» Всегда импонирует, когда человек горит своим делом, – Роман выкладывается на тысячу процентов.
Первой его постановкой в нашем театре стал «Отелло». Получился красивый, эмоциональный спектакль с яркими, запоминающимися актерскими работами. Потом была «Кровавая свадьба», а сейчас мы работаем над «Гамлетом». Премьера намечена на открытие фестиваля «Федерация».
Первой его постановкой в нашем театре стал «Отелло». Получился красивый, эмоциональный спектакль с яркими, запоминающимися актерскими работами. Потом была «Кровавая свадьба», а сейчас мы работаем над «Гамлетом». Премьера намечена на открытие фестиваля «Федерация».
– Не хотите пригласить на постановку режиссера с громким именем? Порой это хороший способ привлечь внимание фестивалей – например, «Золотой Маски».
– Я никогда не думала о «Золотой Маске». Будет – ну, хорошо. Конечно, для театра это было бы здорово, но мне такие соображения не приходят в голову: очень много было работы по возрождению самого театра. Я говорю сейчас не столько о возможностях труппы, сколько о материально-технической базе. Вот только что, в этом году, мы докупили оснащение по свету. Это бесконечный процесс, особенно если начинаешь с нуля. Когда все строится одновременно – больницы, дома, университеты – неловко просить для себя. Теперь можно сказать, что я довольна, хотя и понятно, что нет предела совершенству. И обычно я думала: «Какая “Маска”?! Нам бы хорошие гримерные сделать, режиссерский пульт, обновить механизм сцены, наладить селекторную связь!» Но сейчас мы выросли, созрели и готовы ставить спектакли с мыслью о премиях.
– Кстати о возможностях труппы. У вас нет выпускников целевых курсов?
– В советское время целевые курсы были, а один набирался даже после развала СССР. Некоторые выпускники ЛГИТМиКа до сих пор у нас работают – еще с 1960-х, как и гитисовцы (более позднего времени выпуска, конца 1970-х). Но в последующие годы возвращались в республику два-три человека – остальные оставались в Москве или даже уходили из профессии. Поэтому было принято решение открыть актерский факультет в Грозном. Первый набор был в 1989 году. Понятно, что обучение и подготовка актеров на местах всегда оставляют желать лучшего. Но у нас некоторые ребята без целевого направления сами поступают в московские институты. Тут кому как повезет (если правильно сказать – кому Бог поможет). Сейчас у нас в труппе – выпускники Чеченского университета, Чеченского колледжа культуры, ГИТИСа.
– Поездка в Москву – всегда особенное событие?
– Москва – это Москва, столица! Здесь много людей, много разных культур. В том числе много людей именитых. Мне было очень приятно, когда я в зале увидела Андрея Александровича Борисова, директора МАМТ, Ольгу Яковлеву. Был и Борис Афанасьевич Морозов, о чем я узнала из его сообщений по телефону – я не знала, что он в зале. Кого-то пригласила я или Роман Мархолиа, кто-то сам неожиданно пришел. Все были довольны, всем спектакль понравился. Так что после «Кровавой свадьбы» у меня была долгая бессонная ночь – так я переволновалась.
А пару лет назад мы были в Санкт-Петербурге на фестивале «Александринский». Нас пригласил Валерий Владимирович Фокин. Мы сыграли «Отелло» на чеченском языке (а у них тоже есть этот спектакль в репертуаре). Там, как и в Москве, искушенная публика. Для нас эта поездка стала экзаменом, задала планку. Это не просто опыт – он накладывает ответственность: ты не можешь быть хуже, слабее, не имеешь права опуститься ниже. Мы немножко волновались, но как принимал нас зал! Никогда этого не забуду. Как грозди винограда, с балконов свисали люди. Артист Николай Сергеевич Мартон, стоя, долго кричал «браво!» Так что нет границ у искусства, нет для него препятствий, языковых барьеров.
А пару лет назад мы были в Санкт-Петербурге на фестивале «Александринский». Нас пригласил Валерий Владимирович Фокин. Мы сыграли «Отелло» на чеченском языке (а у них тоже есть этот спектакль в репертуаре). Там, как и в Москве, искушенная публика. Для нас эта поездка стала экзаменом, задала планку. Это не просто опыт – он накладывает ответственность: ты не можешь быть хуже, слабее, не имеешь права опуститься ниже. Мы немножко волновались, но как принимал нас зал! Никогда этого не забуду. Как грозди винограда, с балконов свисали люди. Артист Николай Сергеевич Мартон, стоя, долго кричал «браво!» Так что нет границ у искусства, нет для него препятствий, языковых барьеров.
– Искусство нас всех объединяет, что важно всегда, но сегодня – в высшей степени. Театр тоже должен взять на себя эту миссию?
– Театр будет всегда. Но что он должен? – Он должен быть честным. Просто быть честным. Один театр не похож на другой, в каждом – свой руководитель. Если руководитель – личность, если он порядочный человек, любящий свой народ, свою страну, свою землю, то и подопечные будут похожи на него. Хозяин этого прекрасного здания (Театра им. Вахтангова – прим. Д.С.) – Кирилл Игоревич Крок. Все знают его способности организатора. Посмотрите, как у него везде чисто, аккуратно, красиво, как все абсолютно продумано. И службы соответствуют. Как к нам внимательны! Мы бываем в разных городах, и мне есть с чем сравнивать. Такое отношение к нам было только в Александринском театре. Мы даже ошарашены были той теплотой и заботой. Так же и здесь. А почему? – Потому что хозяин на месте. Он с уважением относится к нашему коллективу, культуре, народу, республике. А значит, и к своей стране. Это отражается на всем. И это уважение мы несем с собой на сцену. Представьте: кто-то испортил настроение актеру, монтировщику, звуковику – как пойдет спектакль? Меня охранник встретил словами: «Я в этом году был в Грозном!» Мне стало так приятно, человек этот показался мне родным, будто я его из дому привезла. И весь день пошел как по маслу. Вот где «вешалка»! С этого и начинается театр – с улыбки, внимания и уважения.
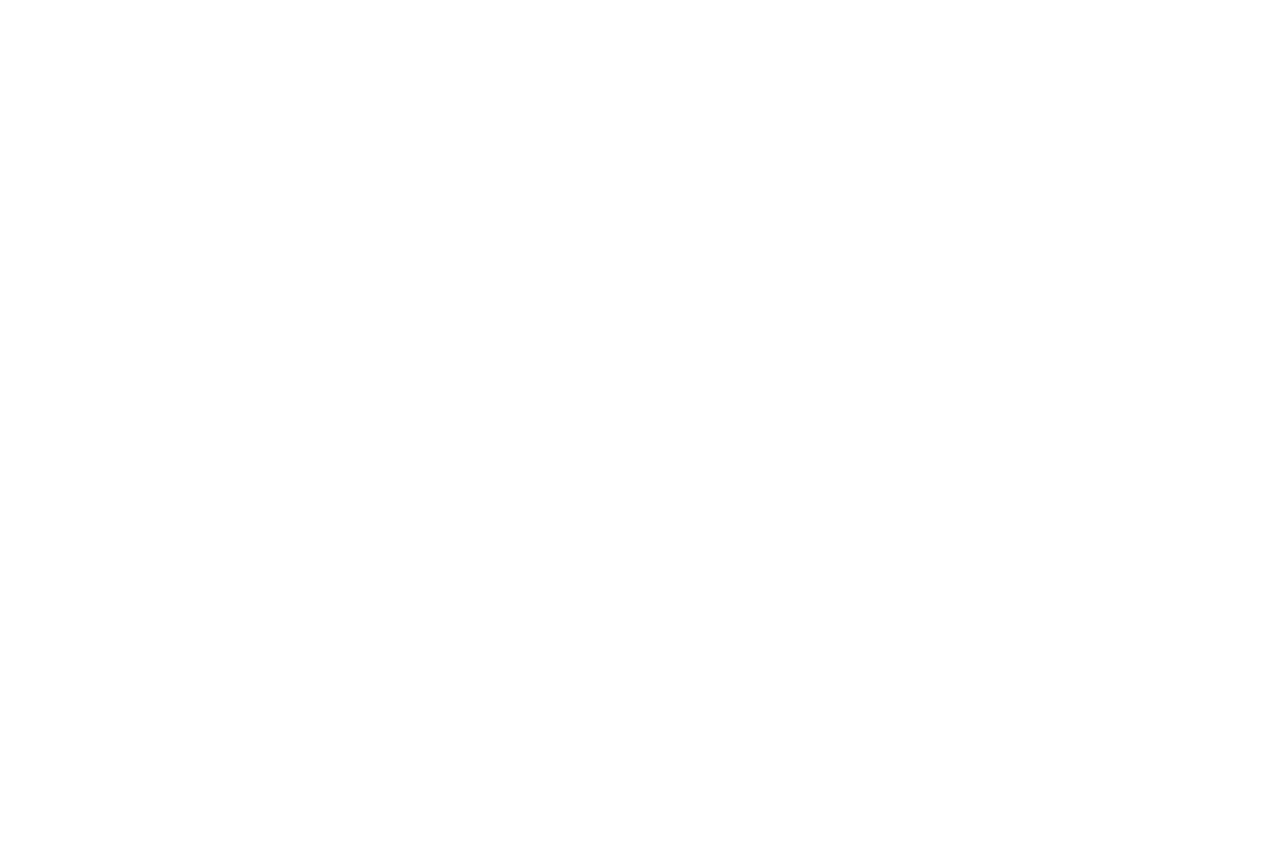
Дарья Семёнова
Фото Сайд-Хусейна Царнаева, Олега Черноуса
Фото Сайд-Хусейна Царнаева, Олега Черноуса

