Нелирический герой.
Артем Кукушкин
Артем Кукушкин
Омский театр драмы – один из лучших региональных коллективов страны: со своей историей, репертуаром, интересными режиссерами и, конечно, прекрасными артистами. Среди них и молодой актер Артем Кукушкин – герой интеллектуального типа и зачастую с отрицательным обаянием. В списке его ролей есть и Раскольников, и Астров, и Волохов, и многие другие – персонажи классические и современные, но всегда тонко и точно сыгранные. Московские гастроли театра подарили возможность разговора с ним.
– Всегда удивляюсь, когда суровые сдержанные сибиряки становятся актерами. Как это произошло у вас?
– Да как всегда такие вещи происходят – почти случайно. Я учился на факультете иностранных языков в ОмГУ им. Достоевского и собирался стать художественным переводчиком. Моей дипломной работой должна была быть «Кармен» Проспера Мериме. Мой курс был всего лишь пятым набором на нашем молодом факультете, и так получилось, что вся его история одновременно сошлась вместе в тот год. Была семейная братская атмосфера, можно было зайти к декану, выпить с ним чаю и поговорить о своих проблемах. Такого я больше нигде не видел – только потом в театре. Это было приятно, легко и хорошо. У нас проводилось много мероприятий, не относящихся к учебе. Например, мы отмечали католическое Рождество. 24 декабря мы собирались в специально выделенной аудитории, с нами вместе было и руководство, чаепитие плавно переходило в винопитие, но без дебошей. После официальной части с наградами и грамотами начиналось что-то вроде капустника, где группы представляли миниатюры на изучаемых языках. Основной упор всегда делался на практику устной речи: чтобы просто не забыть язык (не повысить свой уровень, а именно не забыть), нужно 4 часа в день на нем говорить. И в первый же год на этом празднике ко мне подошла девушка с четвертого курса с предложением поучаствовать в спектакле в факультетском франкофонном театре (ну, «штаны» в театре всегда нужны). Я согласился – почему бы и нет? Такие коллективы есть в любом крупном университете страны, их больше 20 в России. «Альянс Франсез» организовывал российские фестивали подобных коллективов. Победители должны были ехать в Гренобль для участия в международном фестивале. У меня тогда были серьезные проблемы с военкоматом, и поехать я не смог, несмотря на приз за лучшую мужскую роль второго плана. Может, и к лучшему, не знаю…
А на третьем курсе, когда начались лекции на латыни, в 8.45 надо было говорить на французском, в 9.45 писать на нем, а в 11.30 переходить на английский, я начал не успевать (или, может, я и не хотел успевать). Нужно было серьезно выбирать – и я выбрал жизнь. Естественно, начались «хвосты». За три года учебы наше студенческое братство настолько окрепло, что нехорошо было свой курс тянуть назад и подводить (да это и в жизни так). Я принял решение уйти, но надо ведь было и из театра тоже уходить. Тут надо сказать, что девушка, пригласившая меня в коллектив, оказалась дочерью Сергея Родионовича Тимофеева – актера и на тот момент руководителя «Лицейского театра» в Омске, большого профессионала своего дела. Он, спросив, что я собираюсь делать дальше, посоветовал поступить на актерское отделение. Я попробовал – получилось. Я немножко сентиментален в смысле дат: 4 марта исполнилось 15 лет, как я на театре.
– То есть ваш выбор не родом из детства? Бывает же, что сильное театральное впечатление направляет человека в профессию.
– Я, конечно, ходил в театр – у нас их много на любой вкус. Мой классный руководитель, учитель русского языка и литературы Светлана Александровна Татаринова не понимала, как это – не ходить в театр или даже не хотеть туда ходить? Многие уроки начинались с того, что мы обсуждали только что увиденный спектакль. В старших классах я видел все премьеры всех наших коллективов. Иногда нам что-то не нравилось, и мы спорили (нас этому тоже учили, равно как и иметь свое мнение, пусть и неверное: я в 1993 году пошел в школу, и все демократические новшества откликнулись на нас). Если нам казалось, что мы посмотрели какую-ту ерунду, педагог поясняла, что смотреть надо и плохое, и хорошее, чтобы уметь их отличать. Так на интуитивном уровне мы осознавали, что, например, вчера на балете «Муха-Цокотуха» нас обманули! Или на балете «Чиполлино» был не Вишенка, а уже, простите, изюминка. Как сказал ребенок на «Белоснежке»: «Если нет настоящих гномиков – не надо врать!» Но были и другие вещи, будоражащие, знаковые, на которые мы сами шли. Может, это тоже сыграло роль в выборе профессии. Еще я занимался бальными танцами – пожалуй, это единственный вид искусства, к которому я был причастен и рос в нем, выигрывал чемпионат Сибири. Так что ритмика и пластика у меня были, но не более того. Моя подготовка к жизни не строилась так, чтобы проходить какие-то ступени на пути к тому, чтобы стать актером. С другой стороны, у меня перед артистами не было благоговения. Я понимал, что они – люди, они учились, чтобы заниматься своим делом, любят его (скорее всего). Вот в таком ключе я относился к театру. Факультет иностранных языков меня в него привел!
– Да как всегда такие вещи происходят – почти случайно. Я учился на факультете иностранных языков в ОмГУ им. Достоевского и собирался стать художественным переводчиком. Моей дипломной работой должна была быть «Кармен» Проспера Мериме. Мой курс был всего лишь пятым набором на нашем молодом факультете, и так получилось, что вся его история одновременно сошлась вместе в тот год. Была семейная братская атмосфера, можно было зайти к декану, выпить с ним чаю и поговорить о своих проблемах. Такого я больше нигде не видел – только потом в театре. Это было приятно, легко и хорошо. У нас проводилось много мероприятий, не относящихся к учебе. Например, мы отмечали католическое Рождество. 24 декабря мы собирались в специально выделенной аудитории, с нами вместе было и руководство, чаепитие плавно переходило в винопитие, но без дебошей. После официальной части с наградами и грамотами начиналось что-то вроде капустника, где группы представляли миниатюры на изучаемых языках. Основной упор всегда делался на практику устной речи: чтобы просто не забыть язык (не повысить свой уровень, а именно не забыть), нужно 4 часа в день на нем говорить. И в первый же год на этом празднике ко мне подошла девушка с четвертого курса с предложением поучаствовать в спектакле в факультетском франкофонном театре (ну, «штаны» в театре всегда нужны). Я согласился – почему бы и нет? Такие коллективы есть в любом крупном университете страны, их больше 20 в России. «Альянс Франсез» организовывал российские фестивали подобных коллективов. Победители должны были ехать в Гренобль для участия в международном фестивале. У меня тогда были серьезные проблемы с военкоматом, и поехать я не смог, несмотря на приз за лучшую мужскую роль второго плана. Может, и к лучшему, не знаю…
А на третьем курсе, когда начались лекции на латыни, в 8.45 надо было говорить на французском, в 9.45 писать на нем, а в 11.30 переходить на английский, я начал не успевать (или, может, я и не хотел успевать). Нужно было серьезно выбирать – и я выбрал жизнь. Естественно, начались «хвосты». За три года учебы наше студенческое братство настолько окрепло, что нехорошо было свой курс тянуть назад и подводить (да это и в жизни так). Я принял решение уйти, но надо ведь было и из театра тоже уходить. Тут надо сказать, что девушка, пригласившая меня в коллектив, оказалась дочерью Сергея Родионовича Тимофеева – актера и на тот момент руководителя «Лицейского театра» в Омске, большого профессионала своего дела. Он, спросив, что я собираюсь делать дальше, посоветовал поступить на актерское отделение. Я попробовал – получилось. Я немножко сентиментален в смысле дат: 4 марта исполнилось 15 лет, как я на театре.
– То есть ваш выбор не родом из детства? Бывает же, что сильное театральное впечатление направляет человека в профессию.
– Я, конечно, ходил в театр – у нас их много на любой вкус. Мой классный руководитель, учитель русского языка и литературы Светлана Александровна Татаринова не понимала, как это – не ходить в театр или даже не хотеть туда ходить? Многие уроки начинались с того, что мы обсуждали только что увиденный спектакль. В старших классах я видел все премьеры всех наших коллективов. Иногда нам что-то не нравилось, и мы спорили (нас этому тоже учили, равно как и иметь свое мнение, пусть и неверное: я в 1993 году пошел в школу, и все демократические новшества откликнулись на нас). Если нам казалось, что мы посмотрели какую-ту ерунду, педагог поясняла, что смотреть надо и плохое, и хорошее, чтобы уметь их отличать. Так на интуитивном уровне мы осознавали, что, например, вчера на балете «Муха-Цокотуха» нас обманули! Или на балете «Чиполлино» был не Вишенка, а уже, простите, изюминка. Как сказал ребенок на «Белоснежке»: «Если нет настоящих гномиков – не надо врать!» Но были и другие вещи, будоражащие, знаковые, на которые мы сами шли. Может, это тоже сыграло роль в выборе профессии. Еще я занимался бальными танцами – пожалуй, это единственный вид искусства, к которому я был причастен и рос в нем, выигрывал чемпионат Сибири. Так что ритмика и пластика у меня были, но не более того. Моя подготовка к жизни не строилась так, чтобы проходить какие-то ступени на пути к тому, чтобы стать актером. С другой стороны, у меня перед артистами не было благоговения. Я понимал, что они – люди, они учились, чтобы заниматься своим делом, любят его (скорее всего). Вот в таком ключе я относился к театру. Факультет иностранных языков меня в него привел!
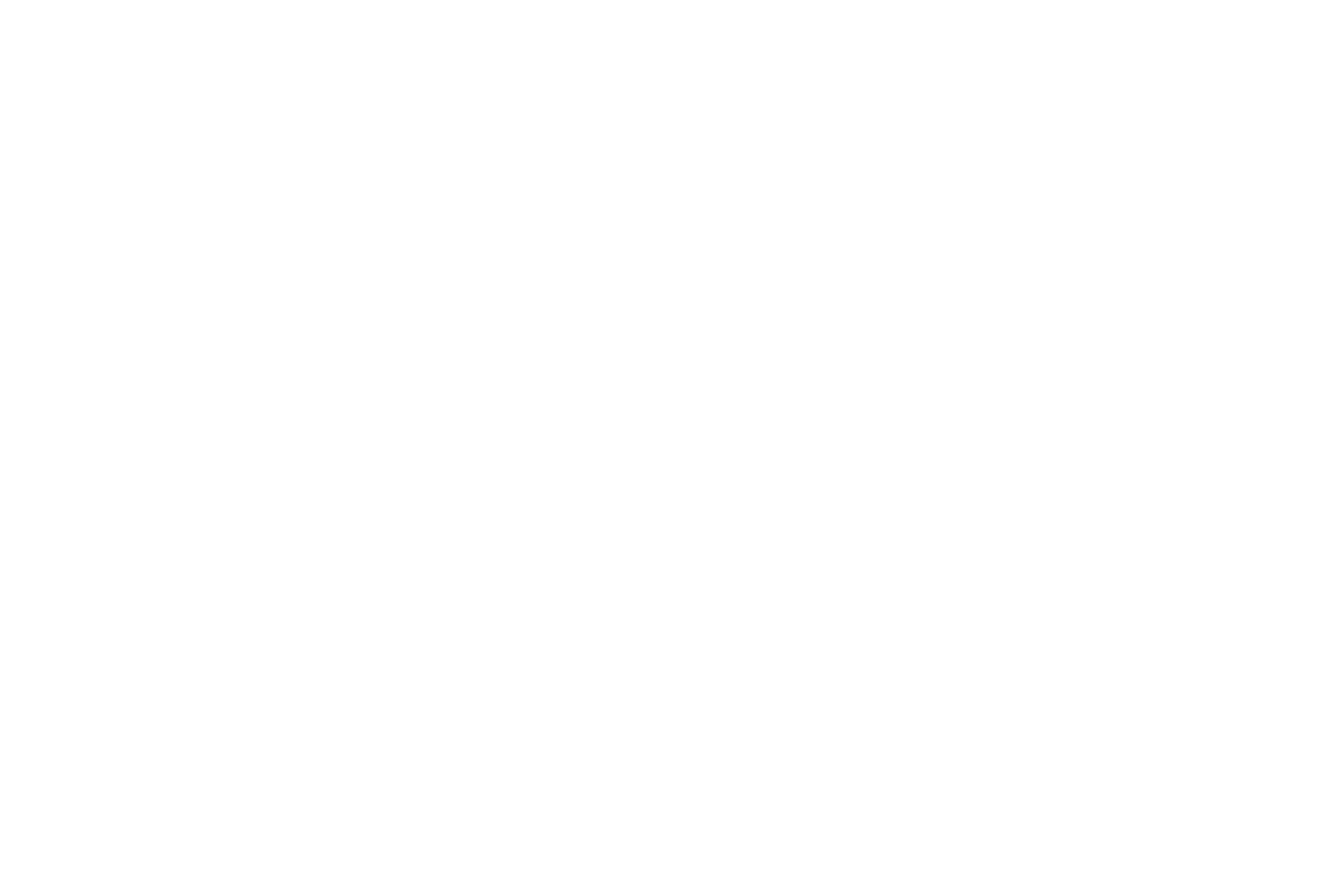
– Не было мысли: «Каким артистом я могу стать в Омске?»
– У меня была мысль: «Каким артистом я могу стать в Москве?» Она периодически уходила на противоположный полюс: «Да куда мне в артисты!» Не знаю, что это: заниженная самооценка или, наоборот, здравый смысл. Чехов в «Дуэли» писал: «Лучше быть первым в деревне, чем в городе вторым». Я же что-то из себя все равно представляю как винтик театрального механизма (не более того). Мы приезжаем в Москву, показываем, что мы у себя ставим. Для кого-то – копошимся, а для нас – работаем, существуем, живем. Мы делаем то же самое. Если речь идет о популярности, возможностях – пожалуй, Москва вне конкуренции. Но сегодня провинция прельщает бо́льшую часть мастодонтов. Пусть это на робком уровне пока, но актерские базы обновляются. Может быть, все так, как в известной короткометражке, где Тимофей Трибунцев говорит: «Да ладно, никогда вы мне не позвоните!» Но если позовут – я с удовольствием, нет – по этому поводу не запью и не буду расстраиваться, волноваться. Я все равно в системе. Наверное, это называется неизбалованность.
Конечно, если ты долгое время варишься только в своем соку, и последующие поколения приобретают только твой опыт, то он далеко не весь. В этой отрицательной геометрической прогрессии ты заложник, получаешь все меньше и меньше. Не знаю, где случился этот поворот не туда, в чем первопричина. Смотреть на других обязательно надо. Как меня учительница учила: и плохое, и хорошее. Нужно видеть два варианта, это и есть обучение. Но сейчас столько информационных возможностей, есть онлайн-трансляции. Мы благодаря им видим большие серьезные работы. «Вишневый сад» Додина как снят! Это талант еще и видеорежиссера. Артисты же играют на авансцене и в зале, как организовать такой эфир? Но это сделано, я ощущаю эффект полного присутствия. В смысле технологий все доступно. Не скажу, что я совсем младенцем приезжаю в Москву и в буфете боюсь взглянуть на Туминаса. Да, возможностей у вас больше, финансовой поддержки, дотаций, уровень связей выше. Это позволяет сделать работы крепче, сильнее, они дольше существуют. Но и здесь театр – и у нас театр. Я уверен, что я не работаю, а служу в театре. Надеюсь, «работать» я никогда и не буду. Вообще каждый про себя знает, какой он актер. Я нормально себя чувствую, у меня по этому поводу нет рефлексии.
– Казалось бы, действительно все всё знают про себя, откуда же тогда проблема с переизбытком артистов?
– Думаю, проблема избытка выпускающихся актеров – общемировая. Но сказать, что по окончании института всем надо идти в театр… Как – «надо»? Кто тебя заставит? Другое дело, что у людей, дошедших до старших курсов, даже знающих, что они не будут профессией заниматься, есть страх: «Ну, что тут осталось? Останусь, доучусь». А я вот в этот момент понял, что не хочу переводить книги с французского языка, и честно сказал себе: «С меня хватит». И если человек на театре понимает, что с него достаточно, но не уходит с мыслью: «Дождусь хорошего предложения, а пока что буду здесь, на окладе», – он портит жизнь себе и чужим (даже не другим, а именно чужим людям). Каждый должен решать для себя, но не все этого хотят. И с этим ничего не поделаешь: нет уже никаких внутренних собраний – теперь у нас контракты. С другой стороны – согласно этому контракту тебя увольняют каждый год. Чисто теоретически ты можешь уйти в отпуск навсегда. Это держит в тонусе.
– У меня была мысль: «Каким артистом я могу стать в Москве?» Она периодически уходила на противоположный полюс: «Да куда мне в артисты!» Не знаю, что это: заниженная самооценка или, наоборот, здравый смысл. Чехов в «Дуэли» писал: «Лучше быть первым в деревне, чем в городе вторым». Я же что-то из себя все равно представляю как винтик театрального механизма (не более того). Мы приезжаем в Москву, показываем, что мы у себя ставим. Для кого-то – копошимся, а для нас – работаем, существуем, живем. Мы делаем то же самое. Если речь идет о популярности, возможностях – пожалуй, Москва вне конкуренции. Но сегодня провинция прельщает бо́льшую часть мастодонтов. Пусть это на робком уровне пока, но актерские базы обновляются. Может быть, все так, как в известной короткометражке, где Тимофей Трибунцев говорит: «Да ладно, никогда вы мне не позвоните!» Но если позовут – я с удовольствием, нет – по этому поводу не запью и не буду расстраиваться, волноваться. Я все равно в системе. Наверное, это называется неизбалованность.
Конечно, если ты долгое время варишься только в своем соку, и последующие поколения приобретают только твой опыт, то он далеко не весь. В этой отрицательной геометрической прогрессии ты заложник, получаешь все меньше и меньше. Не знаю, где случился этот поворот не туда, в чем первопричина. Смотреть на других обязательно надо. Как меня учительница учила: и плохое, и хорошее. Нужно видеть два варианта, это и есть обучение. Но сейчас столько информационных возможностей, есть онлайн-трансляции. Мы благодаря им видим большие серьезные работы. «Вишневый сад» Додина как снят! Это талант еще и видеорежиссера. Артисты же играют на авансцене и в зале, как организовать такой эфир? Но это сделано, я ощущаю эффект полного присутствия. В смысле технологий все доступно. Не скажу, что я совсем младенцем приезжаю в Москву и в буфете боюсь взглянуть на Туминаса. Да, возможностей у вас больше, финансовой поддержки, дотаций, уровень связей выше. Это позволяет сделать работы крепче, сильнее, они дольше существуют. Но и здесь театр – и у нас театр. Я уверен, что я не работаю, а служу в театре. Надеюсь, «работать» я никогда и не буду. Вообще каждый про себя знает, какой он актер. Я нормально себя чувствую, у меня по этому поводу нет рефлексии.
– Казалось бы, действительно все всё знают про себя, откуда же тогда проблема с переизбытком артистов?
– Думаю, проблема избытка выпускающихся актеров – общемировая. Но сказать, что по окончании института всем надо идти в театр… Как – «надо»? Кто тебя заставит? Другое дело, что у людей, дошедших до старших курсов, даже знающих, что они не будут профессией заниматься, есть страх: «Ну, что тут осталось? Останусь, доучусь». А я вот в этот момент понял, что не хочу переводить книги с французского языка, и честно сказал себе: «С меня хватит». И если человек на театре понимает, что с него достаточно, но не уходит с мыслью: «Дождусь хорошего предложения, а пока что буду здесь, на окладе», – он портит жизнь себе и чужим (даже не другим, а именно чужим людям). Каждый должен решать для себя, но не все этого хотят. И с этим ничего не поделаешь: нет уже никаких внутренних собраний – теперь у нас контракты. С другой стороны – согласно этому контракту тебя увольняют каждый год. Чисто теоретически ты можешь уйти в отпуск навсегда. Это держит в тонусе.

– Вы начинали в «Пятом театре», очень хорошем коллективе, откуда потом перешли в Омскую драму. Это была ваша инициатива или «отпуск навсегда»?
– Я учился на третьем курсе, когда посреди сезона один из актеров «Пятого» поехал в Москву – покорять вас. Освободилось место, возникла авральная история, меня позвали. Конечно, я сказал: «Давайте!» Собственно, я для этого и учился. 10 лет я прослужил в этом коллективе, а потом Георгий Зурабович Цхвирава меня пригласил к себе. Это была забавная история. На фестивале «Молодые театры России», который приходится на начало сезона, мы встретились с ним в закулисном коридоре. Он спросил, не было ли у меня мыслей поработать в Омской драме. Я честно ответил, что никогда об этом не думал. А как иначе? Это все равно что прийти в МХТ им. Чехова со словами: «Хочу к вам. У меня даже диплом есть». Цхвирава попросил подумать, я пообещал, что так и сделаю (что еще я мог сказать?). Он оставил мне номер телефона. Я не собирался никуда торопиться, мы тогда у себя в театре репетировали с Никитой Гриншпуном, прекрасным режиссером, с кем мне очень интересно работать (так, может, еще только с Анатолием Праудиным интересно). И как-то звезды сошлись, что ли… Мы ведь не вели тайную переписку, не устраивали заговор, но всё стало меня двигать из «Пятого». Двигать даже не в сторону Драмы – а просто случился острый момент, когда стало понятно: нужно уходить. Прошло примерно полгода с нашего разговора с Георгием Зурабовичем, телефон его я потерял… Куда было идти? Всплывали мысли и о Петербурге, и о Москве. Случайно я вспомнил об этой нашей встрече, через кого-то достал номер, дозвонился, чтобы узнать, не забыл ли он об этом (и не забил ли). И меня пригласили буквально на завтра поговорить и все обсудить.
В тот момент в Омск приехала мой друг и соратник, режиссер Надя Кубайлат, выпускница Женовача, чтобы сделать эскизный показ чеховской «Дуэли». Мне досталась роль Лаевского. Наша работа пошла в репертуар «Пятого». Она стала крайней для меня в этом коллективе, и я ушел в Драму, где в то же время приехавший Егор Равинский решил ставить «Рассказ неизвестного человека» Чехова, а я попал в распределение. Так что Чехов меня и отправил в новый театр. У меня страха перед переходом не было: я решился и попробовал. Будь что будет! Хуже бы не было. Раз уж я все равно решил уйти из «Пятого», то какая разница? А в Драме все так повернулось… Не было бы счастья, да несчастье помогло: артист был тяжело болен, меня ввели на его роли. И пошло-поехало.
– Можно ли сказать, что вы ушли на повышение, ведь Омская драма – лучший коллектив города?
– Омский академический театр – визитная карточка города. В Омске выше некуда. Это общепризнанное мнение. Так что – да. У нас много народных, заслуженных артистов – я у них только и учусь. Мне это нравится. Мне кажется, я умею учиться, это еще с ИнЯза было заложено. Это самое важное умение. Учиться надо в любой ситуации и у всех: смотря видеозапись крымовского «Сережи», у тех, кто старше и у тех, кто младше. Да даже у себя. Не в том смысле, чтобы пересматривать свои спектакли в записи. Но я про себя знаю, что я за актер, в чем я нечестен перед собой. Бывают моменты, когда мне стыдно, и это держит. Наверное, когда мне такие мысли вообще перестанут в голову приходить, надо будет вешаться или уж до конца покрывать себя бронзой и не волноваться по этому поводу.
Но надо сказать, что и в «Пятом театре» есть очень качественные спектакли и очень хорошие актеры. Естественно, финансовый вопрос существует, но в пропорции к нему качество высокое. Тогда я этого не понимал, а сейчас осознаю, какие мастера приезжали, какие работы создавались. Мы делали сильные вещи. Труппа была гибкая и постоянно находилась в тонусе и тренинге. Не знаю, есть ли в крупных театральных городах, да даже и в столице, уроки вокала или сценического движения для актеров? Возможно, в Москве им не позволяет заниматься этим занятость вне театра, а может, и амбиции. Мол, как это? «Я уже научился и даже показывал это – вот “Маска”!» А в «Пятом» все это было. Да и просто приезд Бориса Цейтлина или Анатолия Праудина – уже такой урок! Это на годы, если не на всю жизнь, запоминается. Классное было время.
– Я учился на третьем курсе, когда посреди сезона один из актеров «Пятого» поехал в Москву – покорять вас. Освободилось место, возникла авральная история, меня позвали. Конечно, я сказал: «Давайте!» Собственно, я для этого и учился. 10 лет я прослужил в этом коллективе, а потом Георгий Зурабович Цхвирава меня пригласил к себе. Это была забавная история. На фестивале «Молодые театры России», который приходится на начало сезона, мы встретились с ним в закулисном коридоре. Он спросил, не было ли у меня мыслей поработать в Омской драме. Я честно ответил, что никогда об этом не думал. А как иначе? Это все равно что прийти в МХТ им. Чехова со словами: «Хочу к вам. У меня даже диплом есть». Цхвирава попросил подумать, я пообещал, что так и сделаю (что еще я мог сказать?). Он оставил мне номер телефона. Я не собирался никуда торопиться, мы тогда у себя в театре репетировали с Никитой Гриншпуном, прекрасным режиссером, с кем мне очень интересно работать (так, может, еще только с Анатолием Праудиным интересно). И как-то звезды сошлись, что ли… Мы ведь не вели тайную переписку, не устраивали заговор, но всё стало меня двигать из «Пятого». Двигать даже не в сторону Драмы – а просто случился острый момент, когда стало понятно: нужно уходить. Прошло примерно полгода с нашего разговора с Георгием Зурабовичем, телефон его я потерял… Куда было идти? Всплывали мысли и о Петербурге, и о Москве. Случайно я вспомнил об этой нашей встрече, через кого-то достал номер, дозвонился, чтобы узнать, не забыл ли он об этом (и не забил ли). И меня пригласили буквально на завтра поговорить и все обсудить.
В тот момент в Омск приехала мой друг и соратник, режиссер Надя Кубайлат, выпускница Женовача, чтобы сделать эскизный показ чеховской «Дуэли». Мне досталась роль Лаевского. Наша работа пошла в репертуар «Пятого». Она стала крайней для меня в этом коллективе, и я ушел в Драму, где в то же время приехавший Егор Равинский решил ставить «Рассказ неизвестного человека» Чехова, а я попал в распределение. Так что Чехов меня и отправил в новый театр. У меня страха перед переходом не было: я решился и попробовал. Будь что будет! Хуже бы не было. Раз уж я все равно решил уйти из «Пятого», то какая разница? А в Драме все так повернулось… Не было бы счастья, да несчастье помогло: артист был тяжело болен, меня ввели на его роли. И пошло-поехало.
– Можно ли сказать, что вы ушли на повышение, ведь Омская драма – лучший коллектив города?
– Омский академический театр – визитная карточка города. В Омске выше некуда. Это общепризнанное мнение. Так что – да. У нас много народных, заслуженных артистов – я у них только и учусь. Мне это нравится. Мне кажется, я умею учиться, это еще с ИнЯза было заложено. Это самое важное умение. Учиться надо в любой ситуации и у всех: смотря видеозапись крымовского «Сережи», у тех, кто старше и у тех, кто младше. Да даже у себя. Не в том смысле, чтобы пересматривать свои спектакли в записи. Но я про себя знаю, что я за актер, в чем я нечестен перед собой. Бывают моменты, когда мне стыдно, и это держит. Наверное, когда мне такие мысли вообще перестанут в голову приходить, надо будет вешаться или уж до конца покрывать себя бронзой и не волноваться по этому поводу.
Но надо сказать, что и в «Пятом театре» есть очень качественные спектакли и очень хорошие актеры. Естественно, финансовый вопрос существует, но в пропорции к нему качество высокое. Тогда я этого не понимал, а сейчас осознаю, какие мастера приезжали, какие работы создавались. Мы делали сильные вещи. Труппа была гибкая и постоянно находилась в тонусе и тренинге. Не знаю, есть ли в крупных театральных городах, да даже и в столице, уроки вокала или сценического движения для актеров? Возможно, в Москве им не позволяет заниматься этим занятость вне театра, а может, и амбиции. Мол, как это? «Я уже научился и даже показывал это – вот “Маска”!» А в «Пятом» все это было. Да и просто приезд Бориса Цейтлина или Анатолия Праудина – уже такой урок! Это на годы, если не на всю жизнь, запоминается. Классное было время.
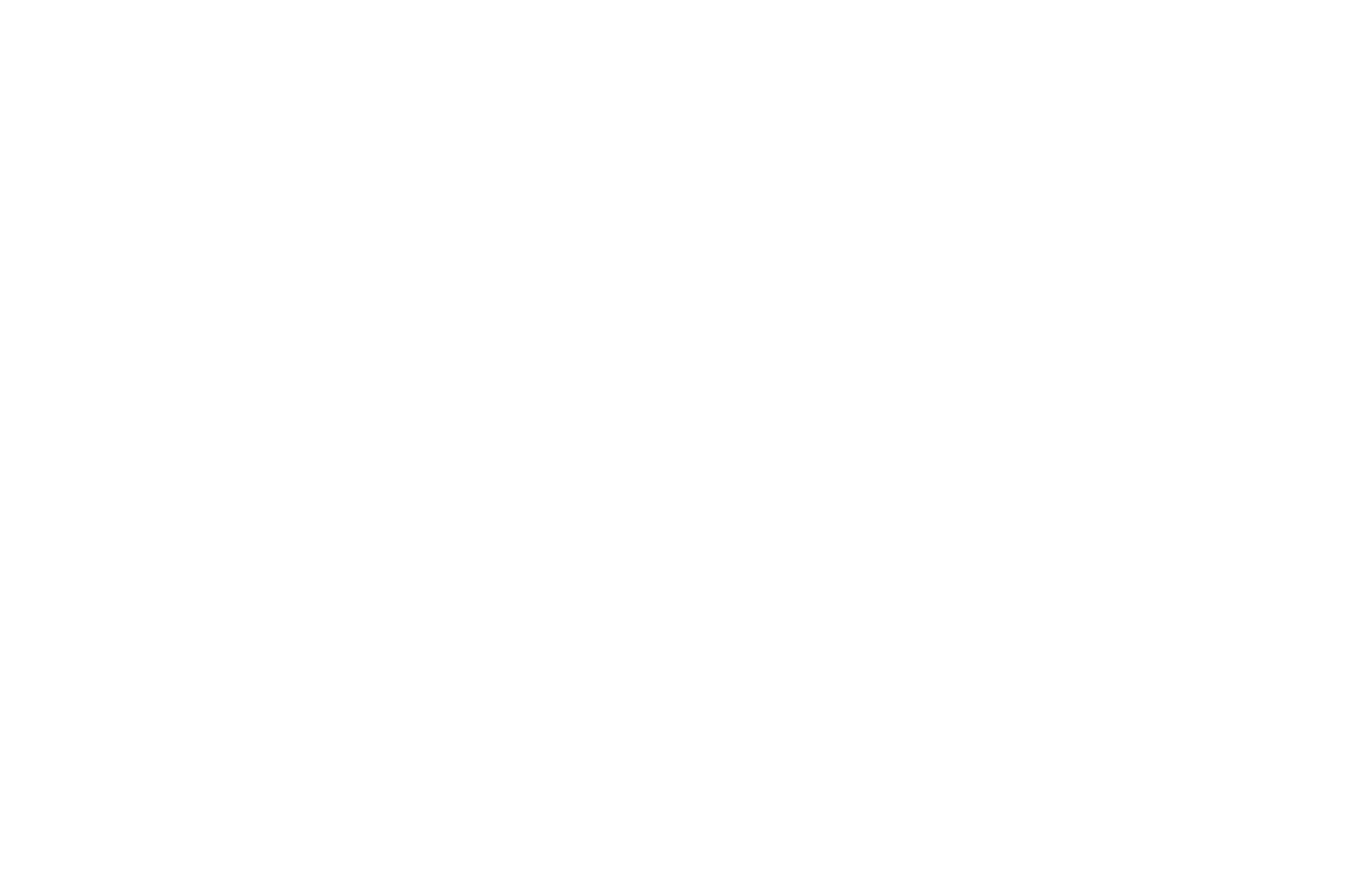
– Расскажите, как получилось, что в вашем репертуаре в основном отрицательные роли?
– Нишу отрицательных персонажей я не занимал, честное слово! Не было такого, что я пришел в театр и сказал: «Отрицательный теперь я». Может быть, этому способствовала моя жизненная позиция. Не то чтобы я злодей, но есть вещи, с которыми я никогда мириться не стану, буду жёсток в споре с любым человеком. Возможно, этот стержень притягивает ко мне такие роли. С другой стороны – я не играл лирических героев и не знаю, смогу ли. Попытки в студенчестве меня не очень прельщали. Хотя я для себя не решал, что буду играть только злодеев, и все у меня получится. Наверное, меня таким видят.
– А как справляться с пристальным вниманием публики к классике, про которую все знают, «как надо» ее играть?
– Ввиду моей, назовем это – чистоты, я не знаю, «как надо», хорошо ли это или плохо. Вот «как не надо» я знаю точно, и это мне помогает. Себе я могу признаться, что у меня что-то не получается. Но я априори должен доверять вкусу режиссера, который взялся со мной работать. Актерская задача подразумевает какой-то действенный глагол, и мы должны «на берегу» с постановщиком о нем договориться и понять, во что-то это выльется дальше. Тут уж как сумею, да. Другое дело, что это «как надо» может показывать, что ты как раз понимаешь, в чем отличие Астрова от Раскольникова, иначе есть опасность играть эти роли одинаково. Да, я пытаюсь избежать похожести, но внутри у меня порой бывает сомнение, что не то я делаю. Хотя ведь театральные школы говорят: «Иди от себя. Сердись, как ты сам сердишься в жизни». Но тогда на сцене будут не Астров и Раскольников, а рассерженный Кукушкин! Честное слово, не понимаю, как с этим быть. Я же себя не вижу со стороны, не спрашиваю у людей по поводу себя: «Хорош?» – или наоборот: «Ну, что было не так?» Иногда что-то о себе слышу, но меня нет в соцсетях, поэтому мнения о себе я не знаю. Да это мое первое в жизни большое интервью! Не для этого я на театре.
– Премии ведь тоже не самоцель? В прошлом году спектакль «Дядя Ваня» с вашим участием был номинирован на «Золотую маску» – это же престижно. Впрочем, у меня постановка оставила большие сомнения.
– На прошлогодней «Маске» вы видели спектакль, который был создан в этот день. А на нынешних гастролях (Омский театр драмы привез на мартовские гастроли в Москву в том числе и постановку Георгия Цхвиравы «Дядя Ваня» – прим. Д.С.) мы играли третий вариант, а то и пятый. С этой постановкой мы всегда играем, как в первый раз. Мне важно не то, чтобы она менялась внешне, а чтобы мы сохранили то, что в ней заложено, чем мы держимся друг за друга. Я стараюсь договориться о том самом действенном глаголе. На этом нужно задерживаться, а форма – кто как сел или встал – не важна. Мы нормально с Георгием Зурабовичем относимся к моментам, которые у нас возникают из-за переделок: я могу высказать свое мнение, но не стараюсь оценивать их. Я просто вспоминаю первоначальный разбор и пытаюсь объяснить то, как меняется действенный глагол. Тогда и уточняю: «Мы меняем воздействие или мизансцену? Для чего мы это делаем: для адаптации к новому пространству?» Режиссер ведь тоже человек, у него может происходить переосмысление, или просто он сегодня не с той ноги встал. Я даже боюсь предположить, что происходит у Льва Додина. Я видел вживую его «Братьев Карамазовых». Он привозил спектакль в Омск, минут 40 мы ждали начала, потому что он после прогона делал замечания. Наверное, ругал артистов, а там ведь не Кукушкины служат. Они ведь накалены, но выходят и играют. А потом он их опять оставил и пару-тройку часов разносил...
– Нишу отрицательных персонажей я не занимал, честное слово! Не было такого, что я пришел в театр и сказал: «Отрицательный теперь я». Может быть, этому способствовала моя жизненная позиция. Не то чтобы я злодей, но есть вещи, с которыми я никогда мириться не стану, буду жёсток в споре с любым человеком. Возможно, этот стержень притягивает ко мне такие роли. С другой стороны – я не играл лирических героев и не знаю, смогу ли. Попытки в студенчестве меня не очень прельщали. Хотя я для себя не решал, что буду играть только злодеев, и все у меня получится. Наверное, меня таким видят.
– А как справляться с пристальным вниманием публики к классике, про которую все знают, «как надо» ее играть?
– Ввиду моей, назовем это – чистоты, я не знаю, «как надо», хорошо ли это или плохо. Вот «как не надо» я знаю точно, и это мне помогает. Себе я могу признаться, что у меня что-то не получается. Но я априори должен доверять вкусу режиссера, который взялся со мной работать. Актерская задача подразумевает какой-то действенный глагол, и мы должны «на берегу» с постановщиком о нем договориться и понять, во что-то это выльется дальше. Тут уж как сумею, да. Другое дело, что это «как надо» может показывать, что ты как раз понимаешь, в чем отличие Астрова от Раскольникова, иначе есть опасность играть эти роли одинаково. Да, я пытаюсь избежать похожести, но внутри у меня порой бывает сомнение, что не то я делаю. Хотя ведь театральные школы говорят: «Иди от себя. Сердись, как ты сам сердишься в жизни». Но тогда на сцене будут не Астров и Раскольников, а рассерженный Кукушкин! Честное слово, не понимаю, как с этим быть. Я же себя не вижу со стороны, не спрашиваю у людей по поводу себя: «Хорош?» – или наоборот: «Ну, что было не так?» Иногда что-то о себе слышу, но меня нет в соцсетях, поэтому мнения о себе я не знаю. Да это мое первое в жизни большое интервью! Не для этого я на театре.
– Премии ведь тоже не самоцель? В прошлом году спектакль «Дядя Ваня» с вашим участием был номинирован на «Золотую маску» – это же престижно. Впрочем, у меня постановка оставила большие сомнения.
– На прошлогодней «Маске» вы видели спектакль, который был создан в этот день. А на нынешних гастролях (Омский театр драмы привез на мартовские гастроли в Москву в том числе и постановку Георгия Цхвиравы «Дядя Ваня» – прим. Д.С.) мы играли третий вариант, а то и пятый. С этой постановкой мы всегда играем, как в первый раз. Мне важно не то, чтобы она менялась внешне, а чтобы мы сохранили то, что в ней заложено, чем мы держимся друг за друга. Я стараюсь договориться о том самом действенном глаголе. На этом нужно задерживаться, а форма – кто как сел или встал – не важна. Мы нормально с Георгием Зурабовичем относимся к моментам, которые у нас возникают из-за переделок: я могу высказать свое мнение, но не стараюсь оценивать их. Я просто вспоминаю первоначальный разбор и пытаюсь объяснить то, как меняется действенный глагол. Тогда и уточняю: «Мы меняем воздействие или мизансцену? Для чего мы это делаем: для адаптации к новому пространству?» Режиссер ведь тоже человек, у него может происходить переосмысление, или просто он сегодня не с той ноги встал. Я даже боюсь предположить, что происходит у Льва Додина. Я видел вживую его «Братьев Карамазовых». Он привозил спектакль в Омск, минут 40 мы ждали начала, потому что он после прогона делал замечания. Наверное, ругал артистов, а там ведь не Кукушкины служат. Они ведь накалены, но выходят и играют. А потом он их опять оставил и пару-тройку часов разносил...
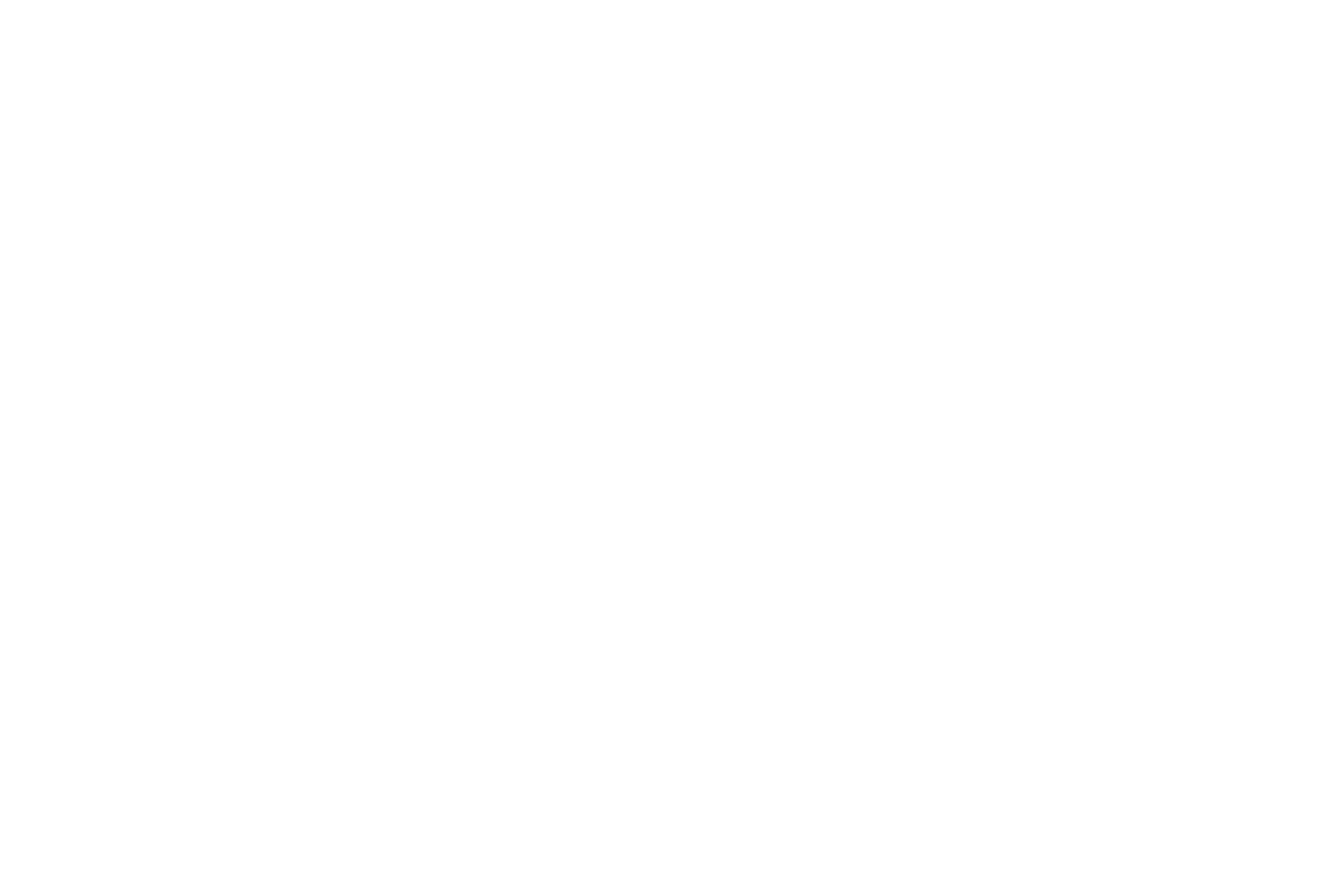
– И все-таки, возвращаясь к «Золотой маске» и «Дяде Ване». Было ощущение, что спектакль поставлен так, чтобы уж непременно получить эту премию.
– Может, есть проверенные способы, как получить эту награду. Мне они неизвестны, и я ни разу не пытался ознакомиться с ними. У меня нет вопросов по критериям «Золотой маски», потому что я с ними не знаком. Не знаю, как обновляется состав жюри: по високосным ли годам, по принципу ли «чет – нечет». Есть ли теории заговора? Я знаю, что честно работаю на сцене – для меня этого достаточно. Я не расстраиваюсь по поводу отсутствия в номинациях. Лучше на эту тему поговорить после спектакля с кем-нибудь из больших театральных деятелей. Да у меня и места нет для «Маски», полку я еще не сделал! Я рад за тех, кто ее получает и даже за тех, кто ее выдает. Наверное, для кого-то это важно.
«Золотомасочный» вариант «Дяди Вани» – конечно, не неудача, но… Пожалуй, это был лихой эксперимент. Не оправдываюсь, но тогда много было обстоятельств, которые притомили актеров. Была борьба. Пожалуй, мы проиграли ее в тот раз. Москва, конкурс – это тоже давит, но не знаю, на кого больше – на меня или на Цхвираву. Наверное, режиссер сам всегда понимает, что у него не получилось. Вопрос в другом: что он будет делать дальше? Обвинит ли он всех или скажет: «Давайте еще раз поборемся». К этому «еще раз поборемся» мы возвращаемся только в таких ситуациях, когда привозим спектакль к другим людям. В сезоне, перед своей публикой, этого нет.
– Мне показалось, что на гастрольных спектаклях в зале было много как раз «своей» публики.
– Мне прямо любопытно, сколько омичей пришло на «Дядю Ваню» в этот раз? Подозреваю, что много. По этому поводу периодически слышишь за кулисами: «Видели женщину во втором ряду?» Я спрашиваю: «Когда вы успеваете?! Что вы делаете?» Я даже не хочу учиться этой хитрости. Не говорю, что у меня четвертая стена, я отключился и существую только на сцене. Но мне, честное слово, некогда смотреть на зал! И, кто бы там нынче ни был – жители Омска или нет, – например, «Визит дамы», которым мы открывали гастроли, в этот раз точно прозвучал по-другому. Может, мировые события этому способствовали, а может, мы изнутри попытались соответствовать моменту… Получилась провидческая своевременная штука.
– Может, есть проверенные способы, как получить эту награду. Мне они неизвестны, и я ни разу не пытался ознакомиться с ними. У меня нет вопросов по критериям «Золотой маски», потому что я с ними не знаком. Не знаю, как обновляется состав жюри: по високосным ли годам, по принципу ли «чет – нечет». Есть ли теории заговора? Я знаю, что честно работаю на сцене – для меня этого достаточно. Я не расстраиваюсь по поводу отсутствия в номинациях. Лучше на эту тему поговорить после спектакля с кем-нибудь из больших театральных деятелей. Да у меня и места нет для «Маски», полку я еще не сделал! Я рад за тех, кто ее получает и даже за тех, кто ее выдает. Наверное, для кого-то это важно.
«Золотомасочный» вариант «Дяди Вани» – конечно, не неудача, но… Пожалуй, это был лихой эксперимент. Не оправдываюсь, но тогда много было обстоятельств, которые притомили актеров. Была борьба. Пожалуй, мы проиграли ее в тот раз. Москва, конкурс – это тоже давит, но не знаю, на кого больше – на меня или на Цхвираву. Наверное, режиссер сам всегда понимает, что у него не получилось. Вопрос в другом: что он будет делать дальше? Обвинит ли он всех или скажет: «Давайте еще раз поборемся». К этому «еще раз поборемся» мы возвращаемся только в таких ситуациях, когда привозим спектакль к другим людям. В сезоне, перед своей публикой, этого нет.
– Мне показалось, что на гастрольных спектаклях в зале было много как раз «своей» публики.
– Мне прямо любопытно, сколько омичей пришло на «Дядю Ваню» в этот раз? Подозреваю, что много. По этому поводу периодически слышишь за кулисами: «Видели женщину во втором ряду?» Я спрашиваю: «Когда вы успеваете?! Что вы делаете?» Я даже не хочу учиться этой хитрости. Не говорю, что у меня четвертая стена, я отключился и существую только на сцене. Но мне, честное слово, некогда смотреть на зал! И, кто бы там нынче ни был – жители Омска или нет, – например, «Визит дамы», которым мы открывали гастроли, в этот раз точно прозвучал по-другому. Может, мировые события этому способствовали, а может, мы изнутри попытались соответствовать моменту… Получилась провидческая своевременная штука.
– В этом спектакле у вас небольшая роль. Вы не из тех артистов, кто спрашивает: «А почему так мало слов»?
– По поводу «мало слов» – а ты попробуй вообще без них! Раз уж ты таков, что тебе большую роль подавай, сыграй так, а то как бы не сказали: «М-да, лучше бы у него слов было побольше». Нет, не в тексте дело, конечно. Тем более, что в этом спектакле я почаще многих на сцене появляюсь. В связи с этим была забавная штука. У нас балльная система в театре, которая влияет на зарплату. 1,75 – это максимальный коэффициент, и то я не знаю, что нужно делать в Омской драме, чтобы его получить. Наверное, голым сальто крутить. Когда режиссер Анджей Бубень подал на подписание наши баллы по итогам «Визита дамы», его спросили: «А почему у вас артисты в роли журналистов так много получили? Мы пьесу-то читали». Бубень отвечает: «А спектакль-то вы видели? Они же не за количество слов отмечены, а за то, что в первый раз в жизни видеокамеру в руки взяли». Надо сказать, мое знакомство с видеокамерой было очень интересным. В итоге мы с ней все-таки договорились, хотя пришлось и орать на нее на репетиции, потому что она меня не слушалась. Да и на прогоне в этот раз мы с ней поругались, и два раза она мне возразила: «Да? Смотри, что я́ могу! “Бездушная машина” сейчас сделает тебя». И сделала, да. Кто мы против искусственного интеллекта?
– У вас есть еще одна неожиданная работа – в детском спектакле «Кот в сапогах». Как относитесь к такому репертуару?
– Очень трудно сделать хороший детский спектакль. Я знаю только одного режиссера, который это умеет, – Никиту Гриншпуна. Он делает не сказку для пятилетних малышей, а постановку для разных возрастов. И в этом поразительное отличие от того, что происходит в тюзах, когда артисты на автомате «топят» дважды в день «Незнайку». Мне не важно, какой будет материал, если мы будем подходить к нему ответственно и по всем канонам. А когда постановщик берется за такую работу по необходимости – это не хорошо. Наверное, я идеалист и утопист.
В «Пятом» я много играл в сказках, потому что театр кормился за счет них. Зачем это нужно в Драме, я не знаю. Вообще, это отличная возможность занимать площадку дважды в день. Хотя мы и «Свидригайлов. Сны» играем днем. Спектакль идет в катакомбах, находящихся прямо под зрительным залом, то есть внизу все слышно – идет ли на сцене что-то, проходит ли монтировка. Поэтому нам приходится изыскивать время, чтобы в театре ничего не шло. Это сложно, но справляемся. Раньше мы играли после вечернего спектакля – в полночь заканчивали, на служебной машине по домам нас развозили, слава богу. Но я все-таки пошел в отдел кадров и сказал: «По-моему, это нарушение. Не может быть перерыва в 20 минут между «Дядей Ваней» и «Свидригайловым». Я выхожу на поклоны, переодеваюсь и иду опять играть. Так можно?» Оказалось, нельзя. Стали искать варианты – нашли такой, что теперь название стоит в 12 дня.
– По поводу «мало слов» – а ты попробуй вообще без них! Раз уж ты таков, что тебе большую роль подавай, сыграй так, а то как бы не сказали: «М-да, лучше бы у него слов было побольше». Нет, не в тексте дело, конечно. Тем более, что в этом спектакле я почаще многих на сцене появляюсь. В связи с этим была забавная штука. У нас балльная система в театре, которая влияет на зарплату. 1,75 – это максимальный коэффициент, и то я не знаю, что нужно делать в Омской драме, чтобы его получить. Наверное, голым сальто крутить. Когда режиссер Анджей Бубень подал на подписание наши баллы по итогам «Визита дамы», его спросили: «А почему у вас артисты в роли журналистов так много получили? Мы пьесу-то читали». Бубень отвечает: «А спектакль-то вы видели? Они же не за количество слов отмечены, а за то, что в первый раз в жизни видеокамеру в руки взяли». Надо сказать, мое знакомство с видеокамерой было очень интересным. В итоге мы с ней все-таки договорились, хотя пришлось и орать на нее на репетиции, потому что она меня не слушалась. Да и на прогоне в этот раз мы с ней поругались, и два раза она мне возразила: «Да? Смотри, что я́ могу! “Бездушная машина” сейчас сделает тебя». И сделала, да. Кто мы против искусственного интеллекта?
– У вас есть еще одна неожиданная работа – в детском спектакле «Кот в сапогах». Как относитесь к такому репертуару?
– Очень трудно сделать хороший детский спектакль. Я знаю только одного режиссера, который это умеет, – Никиту Гриншпуна. Он делает не сказку для пятилетних малышей, а постановку для разных возрастов. И в этом поразительное отличие от того, что происходит в тюзах, когда артисты на автомате «топят» дважды в день «Незнайку». Мне не важно, какой будет материал, если мы будем подходить к нему ответственно и по всем канонам. А когда постановщик берется за такую работу по необходимости – это не хорошо. Наверное, я идеалист и утопист.
В «Пятом» я много играл в сказках, потому что театр кормился за счет них. Зачем это нужно в Драме, я не знаю. Вообще, это отличная возможность занимать площадку дважды в день. Хотя мы и «Свидригайлов. Сны» играем днем. Спектакль идет в катакомбах, находящихся прямо под зрительным залом, то есть внизу все слышно – идет ли на сцене что-то, проходит ли монтировка. Поэтому нам приходится изыскивать время, чтобы в театре ничего не шло. Это сложно, но справляемся. Раньше мы играли после вечернего спектакля – в полночь заканчивали, на служебной машине по домам нас развозили, слава богу. Но я все-таки пошел в отдел кадров и сказал: «По-моему, это нарушение. Не может быть перерыва в 20 минут между «Дядей Ваней» и «Свидригайловым». Я выхожу на поклоны, переодеваюсь и иду опять играть. Так можно?» Оказалось, нельзя. Стали искать варианты – нашли такой, что теперь название стоит в 12 дня.

– Да уж, театр и удобство – вещи несовместные. Так, может, не такая уж это и нужная штука?
– По этому поводу расскажу свою историю. В пандемию, на четвертый месяц вынужденного сидения дома, я решил, что стану искать работу. И деньги были, но тратить их было некуда, да и на улицу нельзя было выходить. Но что я могу предложить людям? Производство развернуть? Аудиокниги записывать? Хотелось просто сгибать руки и ноги, ходить, дышать, общаться. Мне с самим собой не скучно, но иногда наступает момент, когда нужен не то чтобы зритель, а приемник энергии. Потратил день, создал резюме. На вопросе «какую работу ищете» завис на час. А какую: чтобы сгибалась рука? Все-таки нашел, договорился. Положил трубку, выкурил сигарету – звонок: «Театр выходит с карантина». И я подумал: «Почему я не сделал этого в первую неделю?» Ведь театр как будто увидел мои попытки и сказал: «Ты мне нужнее». А я с удовольствием ответил: «Да. А ты мне». Какие бы времена ни были, каким бы делом ты ни занимался – это дело тебе ответит, защитит. Это взаимовыгодные отношения. И мы с театром стараемся дружить и помогать друг другу. Я его не обманываю и не предаю, и он поступает так же – я это чувствую.
– По этому поводу расскажу свою историю. В пандемию, на четвертый месяц вынужденного сидения дома, я решил, что стану искать работу. И деньги были, но тратить их было некуда, да и на улицу нельзя было выходить. Но что я могу предложить людям? Производство развернуть? Аудиокниги записывать? Хотелось просто сгибать руки и ноги, ходить, дышать, общаться. Мне с самим собой не скучно, но иногда наступает момент, когда нужен не то чтобы зритель, а приемник энергии. Потратил день, создал резюме. На вопросе «какую работу ищете» завис на час. А какую: чтобы сгибалась рука? Все-таки нашел, договорился. Положил трубку, выкурил сигарету – звонок: «Театр выходит с карантина». И я подумал: «Почему я не сделал этого в первую неделю?» Ведь театр как будто увидел мои попытки и сказал: «Ты мне нужнее». А я с удовольствием ответил: «Да. А ты мне». Какие бы времена ни были, каким бы делом ты ни занимался – это дело тебе ответит, защитит. Это взаимовыгодные отношения. И мы с театром стараемся дружить и помогать друг другу. Я его не обманываю и не предаю, и он поступает так же – я это чувствую.

Дарья Семёнова
Фото из личного архива
Фото из личного архива

