Анна Пожидаева: «Мне нравится энергия театрального зала»
Актриса Александринского театра Анна Пожидаева, несмотря на молодость, уже имеет за плечами большой сценический опыт: до 13 лет она успешно училась в Вагановском училище, намереваясь стать балериной. Жизнь распорядилась иначе – и сцена драматическая обрела восходящую звезду. Сегодня в ее репертуаре – роли в спектаклях Валерия Фокина, Андрея Прикотенко, других интересных театральных мастеров. Но ее главные достижения, конечно, впереди: талант, целеустремленность и твердый характер этой хрупкой с виду артистки открывают перед ней широкие горизонты.
– С чего начался ваш путь к искусству?
– Я родилась в семье музыкантов. Моя мама флейтистка, окончила Консерваторию им. Римского-Корсакова, а до этого – Санкт-Петербургское музыкальное училище им. Мусоргского, которое находится рядом с РГИСИ, так что мы с ней практически на одной улице учились. Папа – барабанщик, отчим – аранжировщик, играет в рок-группе «Торба-на-Круче». Меня постоянно окружало искусство, музыка, поэтому не быть вовлеченной в творчество было невозможно.
– Вы владеете двумя иностранными языками. Может, родителям все-таки хотелось видеть вас в другой профессии?
– Я действительно достаточно хорошо знаю английский и французский. Иностранные языки всегда мне легко и быстро давались, мне нравилось говорить на них. Но вряд ли их изучение имело с маминой стороны некую профессиональную интенцию: она сама хотела их знать, поэтому и я их учила. Так же было и с танцами: в свое время мама мечтала танцевать – и я занималась в Вагановском училище. Можно сказать, она мне эту любовь и привила. И к музыке тоже, хотя как раз музыкальной школы в моей жизни практически не было. В 6 лет меня туда отвели, я проучилась год, но, дойдя до момента выбора – заниматься ли по классу фортепиано или на хоровом отделении, – вообще оттуда ушла, отдав предпочтение балету. Мы уже не тянули «музыкалку» ни по времени, ни финансово, да и разрываться было невозможно. «Конечно, балет!» – сказала я и вплоть до 13 лет только им и жила. Я твердо знала, кем я буду и в 20, и в 25, где я буду танцевать – на сцене Мариинского театра. У меня были четкие цели, но…
– …Но на сцену Мариинского театра вы так и не вышли.
– Нет, в Мариинском театре я все-таки оказалась: во время учебы в Вагановском училище я танцевала там в «Щелкунчике», «Шурале», «Спящей красавице», но это не сравнить с тем, о чем я мечтала. Причем у меня все очень хорошо шло, я была в числе лучших учениц. Однако в определенный момент я перестала садиться на поперечный шпагат, а это основополагающее умение для балерины: без тазобедренной выворотности путь в профессии невозможен. Это становилось все заметнее, я стала заниматься усерднее, мама оплачивала дополнительные занятия с педагогом по гимнастике, все это происходило через боль, со слезами. В конце концов я сделала МРТ, прошла большое обследование и узнала, что мне в принципе нельзя заниматься балетом. Оказалось, что я вхожу в 10% людей, не имеющих после пубертата даже малейшей дисплазии (природой же не задумано умение садиться на шпагат – это неестественно). Я росла, кости все больше сворачивались внутрь, возникли медицинские риски. Кроме того, преподавательница думала, что я ленюсь, поэтому и не сажусь до конца, и ненамеренно усугубила проблему. Я уже не смогла сдать переходной экзамен и, к сожалению, попрощалась с балетом в 13 лет.
– Я родилась в семье музыкантов. Моя мама флейтистка, окончила Консерваторию им. Римского-Корсакова, а до этого – Санкт-Петербургское музыкальное училище им. Мусоргского, которое находится рядом с РГИСИ, так что мы с ней практически на одной улице учились. Папа – барабанщик, отчим – аранжировщик, играет в рок-группе «Торба-на-Круче». Меня постоянно окружало искусство, музыка, поэтому не быть вовлеченной в творчество было невозможно.
– Вы владеете двумя иностранными языками. Может, родителям все-таки хотелось видеть вас в другой профессии?
– Я действительно достаточно хорошо знаю английский и французский. Иностранные языки всегда мне легко и быстро давались, мне нравилось говорить на них. Но вряд ли их изучение имело с маминой стороны некую профессиональную интенцию: она сама хотела их знать, поэтому и я их учила. Так же было и с танцами: в свое время мама мечтала танцевать – и я занималась в Вагановском училище. Можно сказать, она мне эту любовь и привила. И к музыке тоже, хотя как раз музыкальной школы в моей жизни практически не было. В 6 лет меня туда отвели, я проучилась год, но, дойдя до момента выбора – заниматься ли по классу фортепиано или на хоровом отделении, – вообще оттуда ушла, отдав предпочтение балету. Мы уже не тянули «музыкалку» ни по времени, ни финансово, да и разрываться было невозможно. «Конечно, балет!» – сказала я и вплоть до 13 лет только им и жила. Я твердо знала, кем я буду и в 20, и в 25, где я буду танцевать – на сцене Мариинского театра. У меня были четкие цели, но…
– …Но на сцену Мариинского театра вы так и не вышли.
– Нет, в Мариинском театре я все-таки оказалась: во время учебы в Вагановском училище я танцевала там в «Щелкунчике», «Шурале», «Спящей красавице», но это не сравнить с тем, о чем я мечтала. Причем у меня все очень хорошо шло, я была в числе лучших учениц. Однако в определенный момент я перестала садиться на поперечный шпагат, а это основополагающее умение для балерины: без тазобедренной выворотности путь в профессии невозможен. Это становилось все заметнее, я стала заниматься усерднее, мама оплачивала дополнительные занятия с педагогом по гимнастике, все это происходило через боль, со слезами. В конце концов я сделала МРТ, прошла большое обследование и узнала, что мне в принципе нельзя заниматься балетом. Оказалось, что я вхожу в 10% людей, не имеющих после пубертата даже малейшей дисплазии (природой же не задумано умение садиться на шпагат – это неестественно). Я росла, кости все больше сворачивались внутрь, возникли медицинские риски. Кроме того, преподавательница думала, что я ленюсь, поэтому и не сажусь до конца, и ненамеренно усугубила проблему. Я уже не смогла сдать переходной экзамен и, к сожалению, попрощалась с балетом в 13 лет.
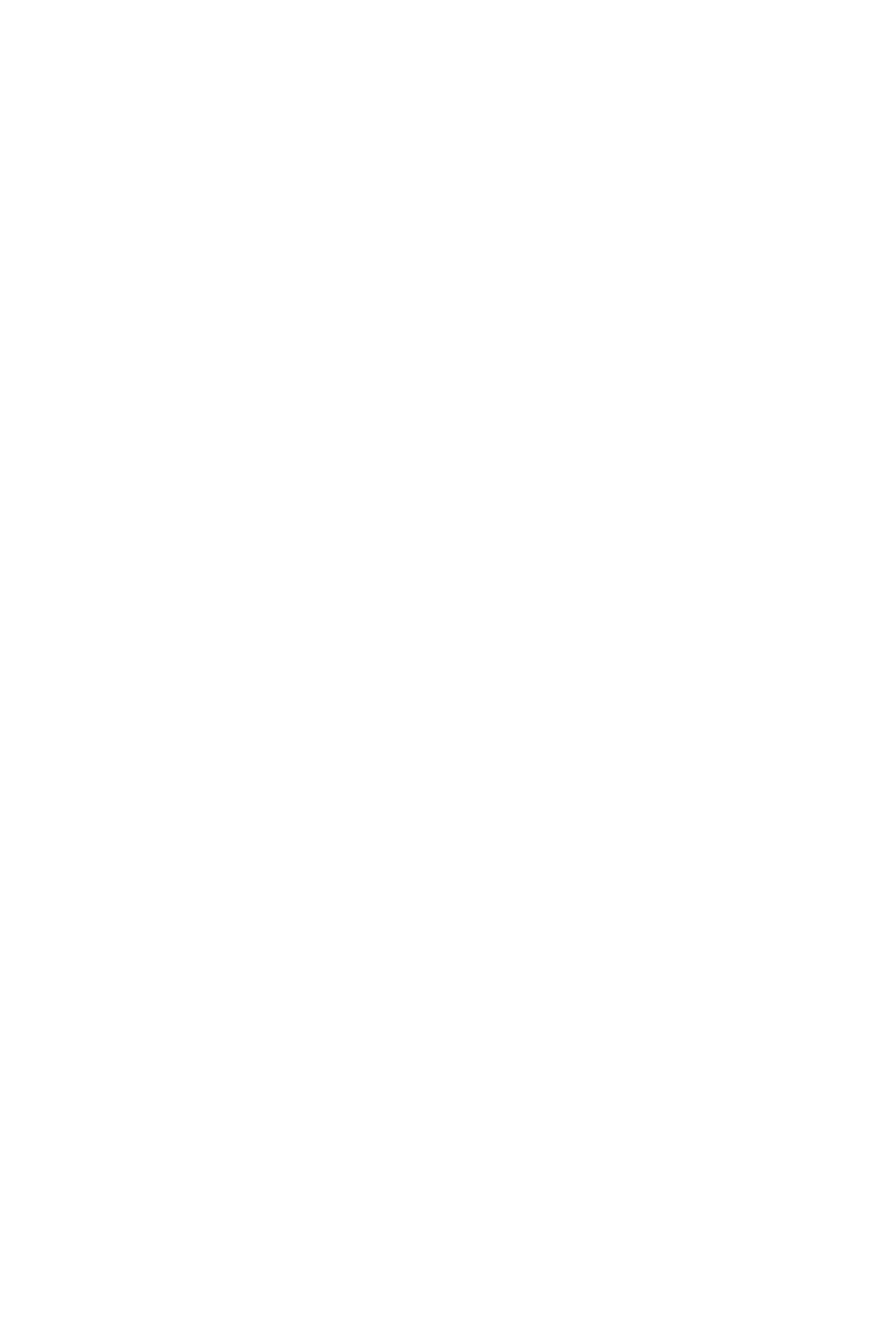
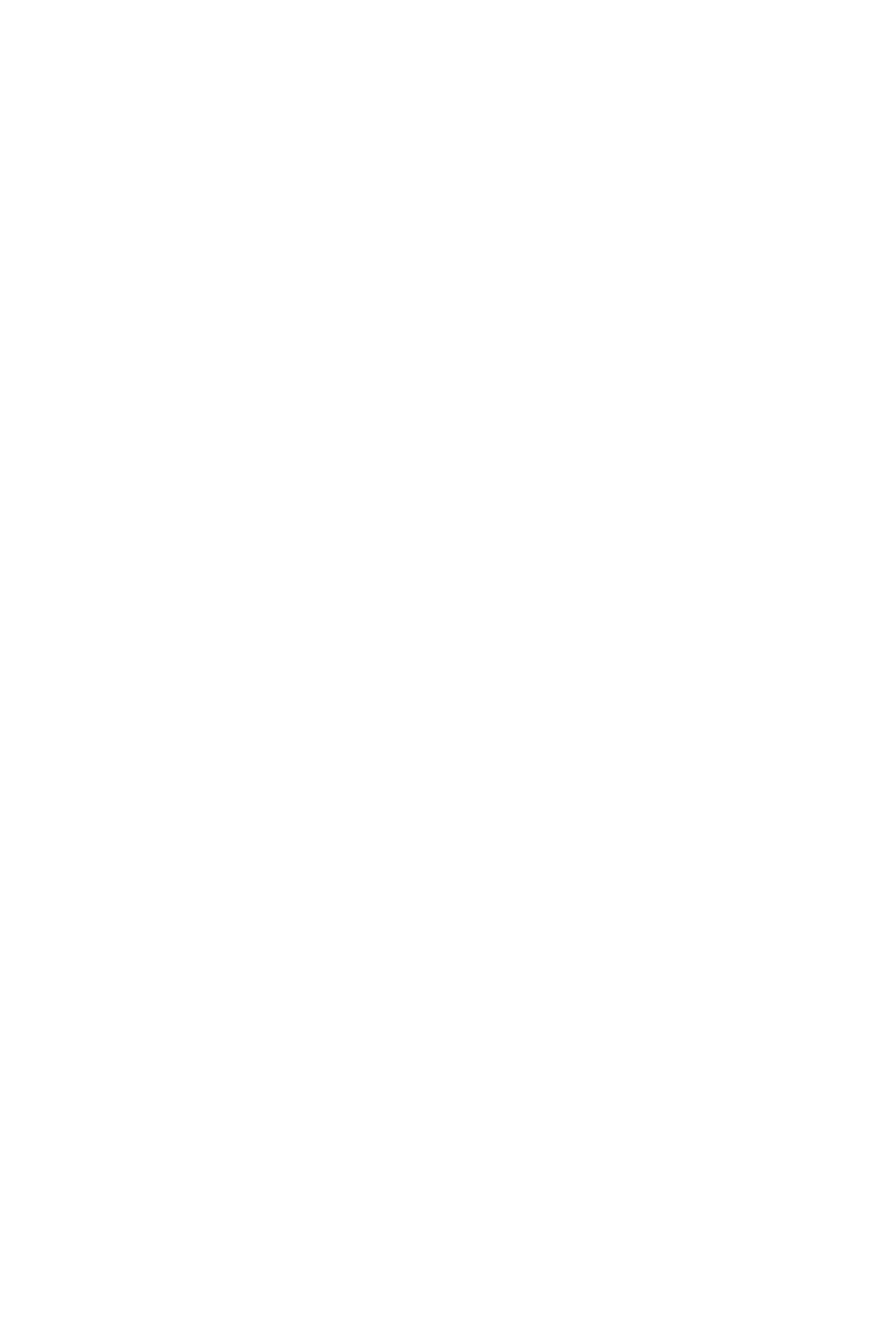
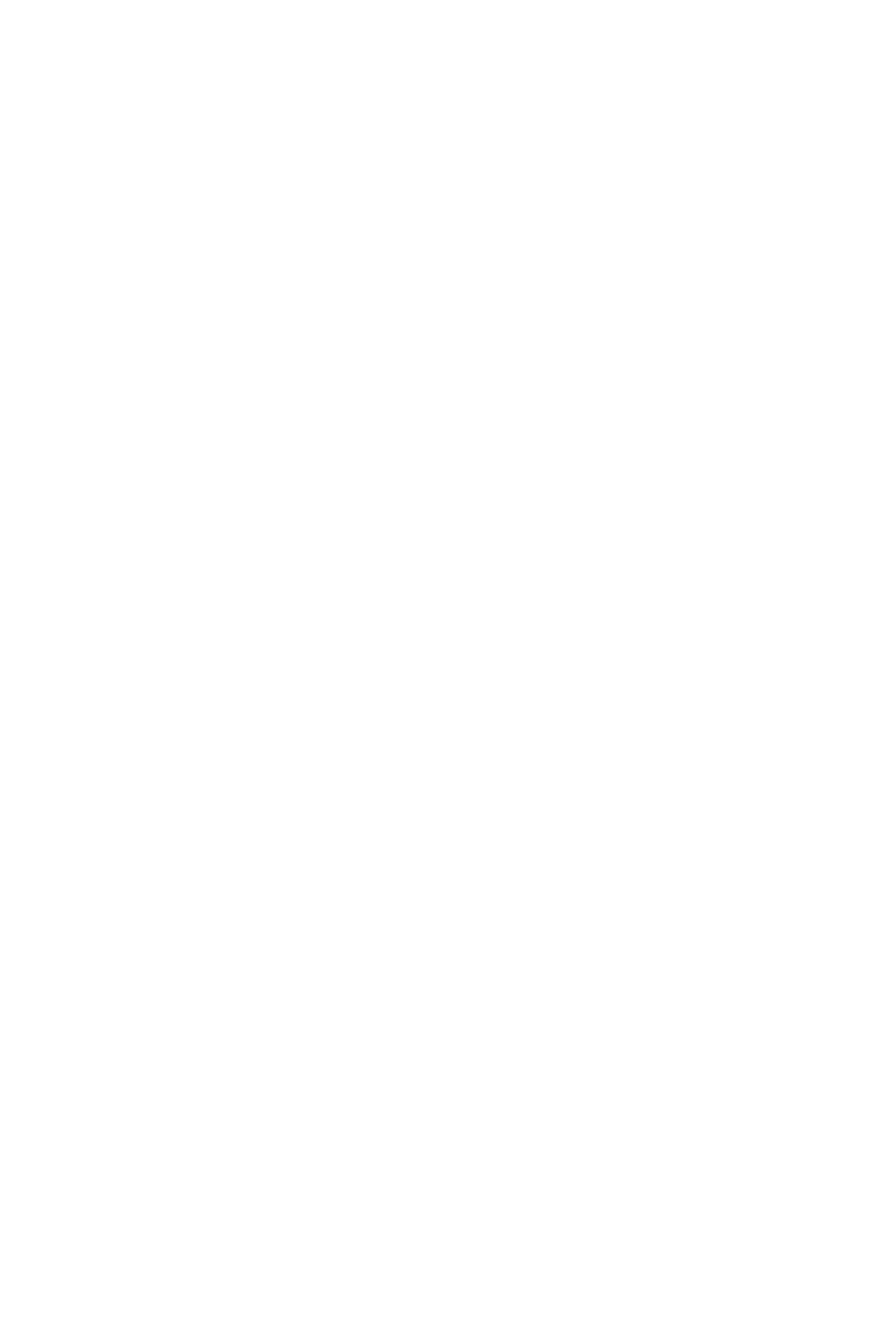
- В этом возрасте еще совсем не поздно начинать с нуля.
- Да, и в тот момент я действительно пробовала себя во многом, но нигде не находила. Начала танцевать хип-хоп, брейк-данс, уличные танцы. Сейчас мне это очень нравится (до сих пор жалею, что ушла), но после балета я не понимала, почему там нет такого же профессионального отношения к делу, большого количества занятий. На любую любительскую деятельность я смотрела с недоверием: мне казалось, что это самодеятельность, несерьезно, а значит, не стоит потраченного времени и труда. Какой смысл, если я не получу крутого результата? Заниматься «для себя» я начала только недавно. А тогда я играла в настольный теннис, рисовала, пела. У меня даже был канал на почти миллион подписчиков (немножко «не добила» я эту цифру, к сожалению).
И все-таки все отошло на второй план, поскольку в 8-м классе появилась театральная студия. Я пошла к Сергею Дмитриевичу Бызгу, очень хорошему артисту, в его «Театр-класс» на Фонтанке. Не сразу я на эти занятия откликнулась: я никого там не знала, была одной из самых младших, а у ребят уж сложилась своя тусовка. Они слушали определенную музыку, разговаривали об искусстве, а я чувствовала себя чужой. Мне нравилось выходить на сцену, но, тем не менее, я ушла. Да и ездить было очень далеко из-за города, где мы тогда жили. Правда, через какое-то время вернулась, походила года полтора - и опять ушла. Думаю, Сергей Дмитриевич на меня немножко обиделся: он меня всегда хвалил и считал, что я должна поступать в театральный вуз.
- А вы так не считали?
- Периодически я тоже об этом думала. Мои товарищи по студии всегда говорили о поступлении, обсуждали мастеров, готовились. Но меня эти разговоры не очень интересовали, хотя сцена привлекала. Задумалась серьезно я в конце 10-го класса, когда уже в школе начали давить вопросом, кто чем собирается заниматься. Ну, в самом деле: я на сцене с 5 лет, а мне еще в Вагановском училище педагоги говорили, что, пусть техники мне и не хватает, есть во мне артистизм. В моем танце был виден и характер, и образ. Я об этом помнила, да и сама чувствовала, что мне нравится энергия театрального зала.
Тем не менее, мы с семьей целенаправленно выбрали Высшую школу экономики. Помню, в один день шли туда почему-то по Моховой, и мама сказала: «А вот училище Мусоргского, которое я окончила». Рядом был РГИСИ, где у дверей толпились студенты. Кто-то что-то орал, другой играл на трубе — обычная для такого места творческая атмосфера. Я посмотрела на них глазами по полрубля, зашла внутрь — и вышла обновленная: «Я буду сюда поступать!» Что-то здесь такое было… Не знаю, почему, но эти люди, абсолютно на первый взгляд неадекватные, показались мне чем-то близки и понятны. Тут же мы отказались от мысли о "Вышке", перешли дорогу и записались на двухмесячные курсы ораторского искусства, а через год — уже на дорогие подготовительные курсы для поступления.
Казалось бы, все решилось спонтанно, но к этому многое располагало.
- Другие вузы вы не рассматривали?
- У нас есть Гуманитарный университет профсоюзов, Киноинститут, но они не могут сравниться с РГИСИ в подготовке по специальности «актерское мастерство». Там — лучшие мастера. Туда я и шла. Правда, я очень хотела попробовать себя еще и в Москве, в "золотой пятерке" театральных вузов («Щуке», "Щепке", ГИТИСе, МХАТе и ВГИКе), но меня не отпустила мама. Она сама в 15 лет приехала в Питер и не хотела, чтобы я прошла подобный путь. Тогда она твердо стояла на своем, хотя сейчас говорит, что можно было и попробовать.
- Петербургская театральная школа вряд ли уступает московской. Наверняка и в сложности тоже.
- Училась я довольно успешно. К концу обучения у меня было много хороших крупных ролей, за которые я очень благодарна мастеру Андрею Дмитриевичу Андрееву. Я ведь его сама выбрала: поступила я сразу в три мастерские, но пошла к нему, хотя он считается одним из самых жестких педагогов. Зато он дает своим ученикам базу, идущую еще от Кнебель, преподает этюдный метод и многое другое.
Про Андреева шла слава, что он очень крут, но жесток. Так оказалось и на деле: многих ребят отчислили, один сокурсник в больницу лег. Андрей Дмитриевич нас вообще не воспринимал как студентов — мы были для него артистами его театра, которые сразу все должны понимать. Он мог не объяснять технику роли, но требовал, чтобы ты сходу все сделал. Самый наш ходовой диалог в те годы: «Когда ты сделаешь это задание?" — «Еще вчера». У нас был дикий ритм. Он и у всех такой в театральных вузах, но на нашем курсе это усугублялось характером мастера. Он казался милым дедушкой — и вдруг на тебя орут, разбиваются стулья, чашка летит в стену! Назывались страшными словами мы, наши родители, их родители и так далее. Это отличная школа, но жесткая, она не всем подходит, разумеется. Но те, кто через нее прошел, либо сломались, либо стали сильнее. Все мои сокурсники адаптировались к ней, однако у некоторых это происходило болезненно. Порой их жалобы были мне не понятны. А как вы собираетесь дальше работать и существовать в дичайшей конкуренции, которая была, есть и будет в актерской профессии, если вы уже на первом этапе не можете это принять? Ведь и режиссеры бывают разные. Не дай бог, попадется какой-нибудь Жолдак! Надо учиться и с таким человеком взаимодействовать, отсекать лишнее, воспринимать только суть. Да, это сложно, когда тебе 17 лет, но зато ты начинаешь осознавать, что же такое этот творческий процесс.
- Вас видели в каком-то определенном амплуа?
- Сейчас все амплуа смешались, потому что появились новые герои. (Хотя кто он такой — новый герой? Но это уже другая тема). Когда я пришла в театр, меня воспринимали в духе: «Голубоглазая блондинка — значит, героиня». Следовательно, и вести я себя должна определенным образом: носить платья и туфли на каблучках, быть женственной и мягкой. Но во мне этого изначально не было. Еще на подготовительных курсах Виолетта Георгиевна Баженова, царство ей небесное, говорила мне: «Аня, где твое женское начало?» В какой-то момент это стало доводить меня до слез. Помню, мы готовили стихотворение Цветаевой, и педагог делала замечания: «Надо читать нежно, с любовью, как будто обращаешься к мужчине». Это было моим больным местом. Меня потом и мастер по-доброму называл «маленьким мальчиком Финном», то есть хулиганом. Если я спешила, то шла мужской походкой: руки в карманах широких штанов, на голове кепка, черные очки - ну, совершенный пацан! Да, внешность моя диктовала конкретные роли и поведение, но моя внутренняя суть этому не соответствовала. Хотя теперь я понимаю, что в себе для роли надо что-то подавлять, а что-то искать, чтобы на сцене выглядеть органично. Работаю над этим!
- Работа ведется уже в стенах одного из лучших театров страны — Александринского. Как вы там оказались?
- Часто бывает, что в мастерских со студентами готовят отрывки для показов, кого-то даже распределяют. Это неплохо, но у нас такого не было. (Не в укор Андрею Дмитриевичу говорю: он занимался с нами основами нашей профессии). Но однажды наш педагог, музыкальный руководитель Александринского театра Иван Иванович Благодер пригласил на прослушивание 5 человек. На нем присутствовал в том числе и Валерий Владимирович Фокин. Я зашла за стеночку, чтобы переодеться, а он как раз заглянул к нам и спросил, где Аня (то есть я). Я довольно сильно удивилась, откуда он меня вообще знает? Помню, я с собой привезла инвалидную коляску, потому что приехала с отрывком из нашего спектакля по "Братьям Карамазовым". Роль Лизы Хохлаковой была моей лучшей, сильнейшей и любимой. До сих пор мечтаю ее еще где-нибудь исполнить, потому что с каждым разом я нахожу в ней что-то новое и все больше удовольствия получаю от игры. Я с ней поступала в РГИСИ, играла ее на протяжении всех курсов, с нею же пришла и в Александринку. Сперва у меня был отрывок из Чехова, и Валерий Владимирович постоянно спрашивал: «Когда ты будешь показывать бесенка?» В итоге я отыграла эпизод минуты на полторы, меня остановили, поблагодарили, а потом сказали, что я принята в труппу.
- Не думали попробовать себя в другом театре?
- Сегодня мысли об этом нет. Но год назад я, может быть, ответила бы по-другому. Ведь тогда у меня не было такой замечательной роли, как Ольга Ильинская. Я благодарю судьбу каждый день, что она у меня есть! И с труппой я на тот момент хоть уже и сдружилась, но пока не чувствовала себя дома. А сейчас — чувствую, и мне этот дом нравится. Раньше я порой думала, что я в Александринке ненадолго, что найду другой театр или буду сниматься в кино, как и хотела изначально. Теперь понимаю, насколько круто, что я здесь. Конечно, не так много зарубежных постановщиков к нам приезжает, как в прошлые годы, но разных все равно очень немало. Это большое преимущество. Так, приехал прекрасный Андрей Прикотенко и поставил «Обломова" - это же здорово. Артист может развиваться и пробовать себя в разных школах у режиссеров со своими взглядами, предпочтениями и системами. Очень ценю за это наш театр.
- Начинали, естественно, со вводов?
- Конечно. Их было много, но в основном в эпизоды и массовку. Это нормально для стажера: он должен дисциплинированно играть в спектаклях самые разные роли. Меня ввели в "Маскарад" и "Гамлета", «Ксению Петербургскую" («Блаженная Ксения. История любви" — прим. Д.С.) и «День рождения сказки», «Преступление и наказание». Но мне повезло, потому что Валерий Владимирович взял меня в новую работу «Мейерхольд. Чужой театр». Я играю товарища Багорскую, у которой очень большой монолог минут на пять. Для начинающей актрисы это довольно сложно, да еще и формат постановки таков, что артисты всегда на сцене, сидят в первом ряду зала. И ты выходишь один к зрителям, к коллегам, обладающим большим опытом. Это одна из самых трудных моих работ. К сожалению, мне не всегда удается выполнять в ней то, что просит Валерий Владимирович.
- Да, и в тот момент я действительно пробовала себя во многом, но нигде не находила. Начала танцевать хип-хоп, брейк-данс, уличные танцы. Сейчас мне это очень нравится (до сих пор жалею, что ушла), но после балета я не понимала, почему там нет такого же профессионального отношения к делу, большого количества занятий. На любую любительскую деятельность я смотрела с недоверием: мне казалось, что это самодеятельность, несерьезно, а значит, не стоит потраченного времени и труда. Какой смысл, если я не получу крутого результата? Заниматься «для себя» я начала только недавно. А тогда я играла в настольный теннис, рисовала, пела. У меня даже был канал на почти миллион подписчиков (немножко «не добила» я эту цифру, к сожалению).
И все-таки все отошло на второй план, поскольку в 8-м классе появилась театральная студия. Я пошла к Сергею Дмитриевичу Бызгу, очень хорошему артисту, в его «Театр-класс» на Фонтанке. Не сразу я на эти занятия откликнулась: я никого там не знала, была одной из самых младших, а у ребят уж сложилась своя тусовка. Они слушали определенную музыку, разговаривали об искусстве, а я чувствовала себя чужой. Мне нравилось выходить на сцену, но, тем не менее, я ушла. Да и ездить было очень далеко из-за города, где мы тогда жили. Правда, через какое-то время вернулась, походила года полтора - и опять ушла. Думаю, Сергей Дмитриевич на меня немножко обиделся: он меня всегда хвалил и считал, что я должна поступать в театральный вуз.
- А вы так не считали?
- Периодически я тоже об этом думала. Мои товарищи по студии всегда говорили о поступлении, обсуждали мастеров, готовились. Но меня эти разговоры не очень интересовали, хотя сцена привлекала. Задумалась серьезно я в конце 10-го класса, когда уже в школе начали давить вопросом, кто чем собирается заниматься. Ну, в самом деле: я на сцене с 5 лет, а мне еще в Вагановском училище педагоги говорили, что, пусть техники мне и не хватает, есть во мне артистизм. В моем танце был виден и характер, и образ. Я об этом помнила, да и сама чувствовала, что мне нравится энергия театрального зала.
Тем не менее, мы с семьей целенаправленно выбрали Высшую школу экономики. Помню, в один день шли туда почему-то по Моховой, и мама сказала: «А вот училище Мусоргского, которое я окончила». Рядом был РГИСИ, где у дверей толпились студенты. Кто-то что-то орал, другой играл на трубе — обычная для такого места творческая атмосфера. Я посмотрела на них глазами по полрубля, зашла внутрь — и вышла обновленная: «Я буду сюда поступать!» Что-то здесь такое было… Не знаю, почему, но эти люди, абсолютно на первый взгляд неадекватные, показались мне чем-то близки и понятны. Тут же мы отказались от мысли о "Вышке", перешли дорогу и записались на двухмесячные курсы ораторского искусства, а через год — уже на дорогие подготовительные курсы для поступления.
Казалось бы, все решилось спонтанно, но к этому многое располагало.
- Другие вузы вы не рассматривали?
- У нас есть Гуманитарный университет профсоюзов, Киноинститут, но они не могут сравниться с РГИСИ в подготовке по специальности «актерское мастерство». Там — лучшие мастера. Туда я и шла. Правда, я очень хотела попробовать себя еще и в Москве, в "золотой пятерке" театральных вузов («Щуке», "Щепке", ГИТИСе, МХАТе и ВГИКе), но меня не отпустила мама. Она сама в 15 лет приехала в Питер и не хотела, чтобы я прошла подобный путь. Тогда она твердо стояла на своем, хотя сейчас говорит, что можно было и попробовать.
- Петербургская театральная школа вряд ли уступает московской. Наверняка и в сложности тоже.
- Училась я довольно успешно. К концу обучения у меня было много хороших крупных ролей, за которые я очень благодарна мастеру Андрею Дмитриевичу Андрееву. Я ведь его сама выбрала: поступила я сразу в три мастерские, но пошла к нему, хотя он считается одним из самых жестких педагогов. Зато он дает своим ученикам базу, идущую еще от Кнебель, преподает этюдный метод и многое другое.
Про Андреева шла слава, что он очень крут, но жесток. Так оказалось и на деле: многих ребят отчислили, один сокурсник в больницу лег. Андрей Дмитриевич нас вообще не воспринимал как студентов — мы были для него артистами его театра, которые сразу все должны понимать. Он мог не объяснять технику роли, но требовал, чтобы ты сходу все сделал. Самый наш ходовой диалог в те годы: «Когда ты сделаешь это задание?" — «Еще вчера». У нас был дикий ритм. Он и у всех такой в театральных вузах, но на нашем курсе это усугублялось характером мастера. Он казался милым дедушкой — и вдруг на тебя орут, разбиваются стулья, чашка летит в стену! Назывались страшными словами мы, наши родители, их родители и так далее. Это отличная школа, но жесткая, она не всем подходит, разумеется. Но те, кто через нее прошел, либо сломались, либо стали сильнее. Все мои сокурсники адаптировались к ней, однако у некоторых это происходило болезненно. Порой их жалобы были мне не понятны. А как вы собираетесь дальше работать и существовать в дичайшей конкуренции, которая была, есть и будет в актерской профессии, если вы уже на первом этапе не можете это принять? Ведь и режиссеры бывают разные. Не дай бог, попадется какой-нибудь Жолдак! Надо учиться и с таким человеком взаимодействовать, отсекать лишнее, воспринимать только суть. Да, это сложно, когда тебе 17 лет, но зато ты начинаешь осознавать, что же такое этот творческий процесс.
- Вас видели в каком-то определенном амплуа?
- Сейчас все амплуа смешались, потому что появились новые герои. (Хотя кто он такой — новый герой? Но это уже другая тема). Когда я пришла в театр, меня воспринимали в духе: «Голубоглазая блондинка — значит, героиня». Следовательно, и вести я себя должна определенным образом: носить платья и туфли на каблучках, быть женственной и мягкой. Но во мне этого изначально не было. Еще на подготовительных курсах Виолетта Георгиевна Баженова, царство ей небесное, говорила мне: «Аня, где твое женское начало?» В какой-то момент это стало доводить меня до слез. Помню, мы готовили стихотворение Цветаевой, и педагог делала замечания: «Надо читать нежно, с любовью, как будто обращаешься к мужчине». Это было моим больным местом. Меня потом и мастер по-доброму называл «маленьким мальчиком Финном», то есть хулиганом. Если я спешила, то шла мужской походкой: руки в карманах широких штанов, на голове кепка, черные очки - ну, совершенный пацан! Да, внешность моя диктовала конкретные роли и поведение, но моя внутренняя суть этому не соответствовала. Хотя теперь я понимаю, что в себе для роли надо что-то подавлять, а что-то искать, чтобы на сцене выглядеть органично. Работаю над этим!
- Работа ведется уже в стенах одного из лучших театров страны — Александринского. Как вы там оказались?
- Часто бывает, что в мастерских со студентами готовят отрывки для показов, кого-то даже распределяют. Это неплохо, но у нас такого не было. (Не в укор Андрею Дмитриевичу говорю: он занимался с нами основами нашей профессии). Но однажды наш педагог, музыкальный руководитель Александринского театра Иван Иванович Благодер пригласил на прослушивание 5 человек. На нем присутствовал в том числе и Валерий Владимирович Фокин. Я зашла за стеночку, чтобы переодеться, а он как раз заглянул к нам и спросил, где Аня (то есть я). Я довольно сильно удивилась, откуда он меня вообще знает? Помню, я с собой привезла инвалидную коляску, потому что приехала с отрывком из нашего спектакля по "Братьям Карамазовым". Роль Лизы Хохлаковой была моей лучшей, сильнейшей и любимой. До сих пор мечтаю ее еще где-нибудь исполнить, потому что с каждым разом я нахожу в ней что-то новое и все больше удовольствия получаю от игры. Я с ней поступала в РГИСИ, играла ее на протяжении всех курсов, с нею же пришла и в Александринку. Сперва у меня был отрывок из Чехова, и Валерий Владимирович постоянно спрашивал: «Когда ты будешь показывать бесенка?» В итоге я отыграла эпизод минуты на полторы, меня остановили, поблагодарили, а потом сказали, что я принята в труппу.
- Не думали попробовать себя в другом театре?
- Сегодня мысли об этом нет. Но год назад я, может быть, ответила бы по-другому. Ведь тогда у меня не было такой замечательной роли, как Ольга Ильинская. Я благодарю судьбу каждый день, что она у меня есть! И с труппой я на тот момент хоть уже и сдружилась, но пока не чувствовала себя дома. А сейчас — чувствую, и мне этот дом нравится. Раньше я порой думала, что я в Александринке ненадолго, что найду другой театр или буду сниматься в кино, как и хотела изначально. Теперь понимаю, насколько круто, что я здесь. Конечно, не так много зарубежных постановщиков к нам приезжает, как в прошлые годы, но разных все равно очень немало. Это большое преимущество. Так, приехал прекрасный Андрей Прикотенко и поставил «Обломова" - это же здорово. Артист может развиваться и пробовать себя в разных школах у режиссеров со своими взглядами, предпочтениями и системами. Очень ценю за это наш театр.
- Начинали, естественно, со вводов?
- Конечно. Их было много, но в основном в эпизоды и массовку. Это нормально для стажера: он должен дисциплинированно играть в спектаклях самые разные роли. Меня ввели в "Маскарад" и "Гамлета", «Ксению Петербургскую" («Блаженная Ксения. История любви" — прим. Д.С.) и «День рождения сказки», «Преступление и наказание». Но мне повезло, потому что Валерий Владимирович взял меня в новую работу «Мейерхольд. Чужой театр». Я играю товарища Багорскую, у которой очень большой монолог минут на пять. Для начинающей актрисы это довольно сложно, да еще и формат постановки таков, что артисты всегда на сцене, сидят в первом ряду зала. И ты выходишь один к зрителям, к коллегам, обладающим большим опытом. Это одна из самых трудных моих работ. К сожалению, мне не всегда удается выполнять в ней то, что просит Валерий Владимирович.
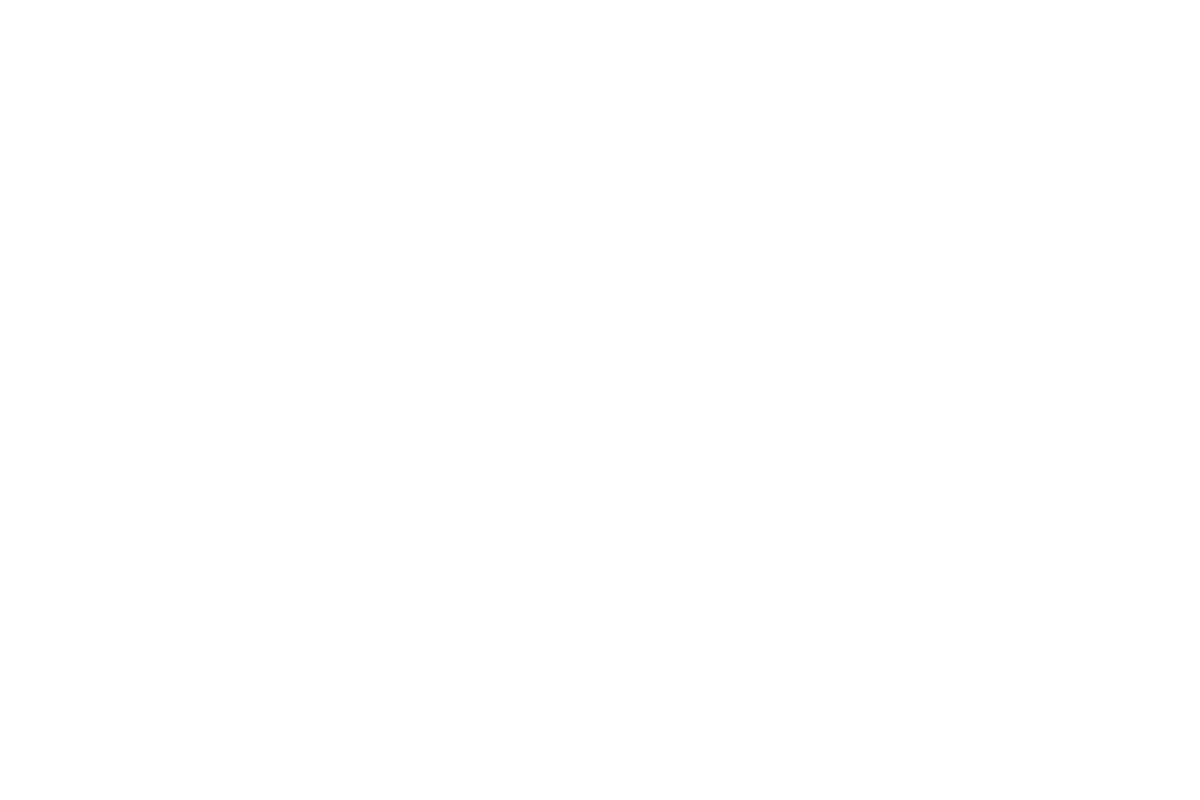
– А что он просит?
– Как я уже сказала, в этом спектакле ты все время находишься на сцене, но не просто сидишь, а вовлечен в процесс – переживание коллектива за судьбу мейерхольдовского театра. Необходимо постоянно поддерживать в себе душевный накал и сопереживание. Моя героиня – совсем молодая артистка, только пришедшая в труппу (в этом плане Фокин очень удачно меня выбрал). Но я почему-то никак не могла взять это обстоятельство. Багорская откровенно высказывается о мастере, которого сильно уважает и любит, но говорит ему горькую правду, отчего в финале своего выступления должна расплакаться. Чаще всего мне недоставало как раз такой краски: от безумного волнения я сама не разрыдаюсь, а, скорее, разозлюсь или истерически расхохочусь. Мои слезы в этом эпизоде должны быть искренними, а я обычно в нем не органична.
Почему-то именно в этом спектакле я ощущаю страх и зажим. В других постановках этого нет. Но я борюсь, и периодически у меня получается. Жаль только, что я не всегда контролирую, когда выходит, а когда нет. Я как будто не до конца знаю механизм действия этой роли: что нужно делать, чтобы правильно в ней распределиться? Хотя Фокин очень мне помогал, терпеливо относился к некоторой моей глупости, с которой сталкивался на репетиции. Ну, что же, мы все равно работаем. Мне это нравится, поскольку у Валерия Владимировича все проходит очень дисциплинированно и мудро. В этом процессе никогда нет ничего лишнего. Иногда молодые режиссеры не знают, что им делать, или знают это приблизительно. А Фокин всегда понимает, чего он хочет, и может донести это до артистов, четко ставит задачу. Для начинающего исполнителя важно, чтобы в театре был человек, способный подсказать. Порой жестко, но в работе с актерами это необходимо. Конечно, иные постановщики дают тебе свободу, но без ее организации плодотворный творческий процесс невозможен.
– Вы задействованы в спектакле «Человек из Дублина», оставляющем впечатление, что репетиционный процесс шел не так четко, как у Фокина.
– В процессе репетиций было очень интересно. Андрей Михайлович Калинин всегда выбирает материал, который редко ставится. Уверена, многие и не слышали, что у Беккета есть роман, а не только пьесы. Прочитав произведение, все артисты ждали, как же оно будет решено. Получилась сюрреалистичная, абсурдная абстрактная картина. Мне нравится эта постановка. Я ее сравниваю с книгой, казалось бы, не имеющей отношения к нашему спектаклю, – «Дом, в котором…» Мариам Петросян. Но люди, читающие ее, делятся на два типа так же, как зрители «Человека из Дублина»: одни ее сразу принимают, как я, влюбляются в эту почти бессюжетную историю, странный магический мир; другие же не принимают ее и не понимают, в какой системе существуют в ней персонажи и зачем они созданы. Моя мама беспристрастна в оценке моих работ, она не будет врать, если я, по ее мнению, играю плохо (наоборот, скажет, как есть, да еще и в красках). Но эту постановку она безумно любит и недавно смотрела ее в пятый раз. Мне кажется, наш режиссер создал такое произведение искусства, которое точно не для всех, но своих зрителей обязательно найдет. Да и уже нашло тех, кто чувствует нечто свое в этом причудливом, но тонком и чудесном мире.
– Но знаковая работа – это все-таки Ольга Ильинская в «Обломове»? Расскажите о своей героине и вообще о спектакле.
– Она – умная, это во-первых. А еще – веселая. Синкретизма этих слов добивался в моей игре Андрей Прикотенко. Мне кажется, и добился. Работать с ним было очень легко и интересно. У нас был нетипично долгий застольный период – больше месяца. Это было здорово. Есть артисты, не любящие долго «засиживаться» и читать, они не понимают, почему мы не «встаем на ноги». Но мне такой подход близок, потому что сперва надо разобраться, с чем именно ты встаешь, что будешь транслировать, говорить, делать. Режиссер подробнейше, в деталях, рассказал свой замысел. А его постоянный соавтор, чудесный художник Ольга Шаишмелашвили, помогла его воплотить. Костюмы были сделаны по историческим лекалам. Да, в них довольно сложно существовать, как и в декорациях – тоже сложных, но красивых. Зато был создан мир, идеально подходящий для этого произведения.
Что касается Ольги, то она в начале спектакля – юная веселая девочка, искрометная в высказываниях и шутках. В книге они не читаются как смешные, а в нашей работе сделаны с юмором. В ней много иронии, что мне и самой близко. Иногда у людей возникает вопрос, почему она влюбляется в Обломова, если они такие разные? Но ведь он – большой ребенок, очень творческий, мечтательный, интересно мыслящий. А Ольга только что тоже была ребенком. По ходу сюжета она становится женщиной, но внутри у нее еще теплится ребячество. Детскость Ильи Ильича, его философия привлекают к нему героиню. Да и вообще мне кажется, что любовь нельзя объяснить. И объяснять-то абсурдно! Мы изначально решали, что она сильно влюблена в Обломова, и это чувство живет в ней всю ее жизнь. В финале, когда она, уже с двумя детьми от Штольца, приезжает к герою, разбитому инсультом, – она тоже его любит, и так будет всегда, даже после его смерти. По-моему, эта идея есть и у Гончарова. Я читала роман в школе, потом перечитывала, потом третий раз читала при подготовке к спектаклю, и все время видела эту любовь, хотя Ильинская и выбрала Штольца.
– Как я уже сказала, в этом спектакле ты все время находишься на сцене, но не просто сидишь, а вовлечен в процесс – переживание коллектива за судьбу мейерхольдовского театра. Необходимо постоянно поддерживать в себе душевный накал и сопереживание. Моя героиня – совсем молодая артистка, только пришедшая в труппу (в этом плане Фокин очень удачно меня выбрал). Но я почему-то никак не могла взять это обстоятельство. Багорская откровенно высказывается о мастере, которого сильно уважает и любит, но говорит ему горькую правду, отчего в финале своего выступления должна расплакаться. Чаще всего мне недоставало как раз такой краски: от безумного волнения я сама не разрыдаюсь, а, скорее, разозлюсь или истерически расхохочусь. Мои слезы в этом эпизоде должны быть искренними, а я обычно в нем не органична.
Почему-то именно в этом спектакле я ощущаю страх и зажим. В других постановках этого нет. Но я борюсь, и периодически у меня получается. Жаль только, что я не всегда контролирую, когда выходит, а когда нет. Я как будто не до конца знаю механизм действия этой роли: что нужно делать, чтобы правильно в ней распределиться? Хотя Фокин очень мне помогал, терпеливо относился к некоторой моей глупости, с которой сталкивался на репетиции. Ну, что же, мы все равно работаем. Мне это нравится, поскольку у Валерия Владимировича все проходит очень дисциплинированно и мудро. В этом процессе никогда нет ничего лишнего. Иногда молодые режиссеры не знают, что им делать, или знают это приблизительно. А Фокин всегда понимает, чего он хочет, и может донести это до артистов, четко ставит задачу. Для начинающего исполнителя важно, чтобы в театре был человек, способный подсказать. Порой жестко, но в работе с актерами это необходимо. Конечно, иные постановщики дают тебе свободу, но без ее организации плодотворный творческий процесс невозможен.
– Вы задействованы в спектакле «Человек из Дублина», оставляющем впечатление, что репетиционный процесс шел не так четко, как у Фокина.
– В процессе репетиций было очень интересно. Андрей Михайлович Калинин всегда выбирает материал, который редко ставится. Уверена, многие и не слышали, что у Беккета есть роман, а не только пьесы. Прочитав произведение, все артисты ждали, как же оно будет решено. Получилась сюрреалистичная, абсурдная абстрактная картина. Мне нравится эта постановка. Я ее сравниваю с книгой, казалось бы, не имеющей отношения к нашему спектаклю, – «Дом, в котором…» Мариам Петросян. Но люди, читающие ее, делятся на два типа так же, как зрители «Человека из Дублина»: одни ее сразу принимают, как я, влюбляются в эту почти бессюжетную историю, странный магический мир; другие же не принимают ее и не понимают, в какой системе существуют в ней персонажи и зачем они созданы. Моя мама беспристрастна в оценке моих работ, она не будет врать, если я, по ее мнению, играю плохо (наоборот, скажет, как есть, да еще и в красках). Но эту постановку она безумно любит и недавно смотрела ее в пятый раз. Мне кажется, наш режиссер создал такое произведение искусства, которое точно не для всех, но своих зрителей обязательно найдет. Да и уже нашло тех, кто чувствует нечто свое в этом причудливом, но тонком и чудесном мире.
– Но знаковая работа – это все-таки Ольга Ильинская в «Обломове»? Расскажите о своей героине и вообще о спектакле.
– Она – умная, это во-первых. А еще – веселая. Синкретизма этих слов добивался в моей игре Андрей Прикотенко. Мне кажется, и добился. Работать с ним было очень легко и интересно. У нас был нетипично долгий застольный период – больше месяца. Это было здорово. Есть артисты, не любящие долго «засиживаться» и читать, они не понимают, почему мы не «встаем на ноги». Но мне такой подход близок, потому что сперва надо разобраться, с чем именно ты встаешь, что будешь транслировать, говорить, делать. Режиссер подробнейше, в деталях, рассказал свой замысел. А его постоянный соавтор, чудесный художник Ольга Шаишмелашвили, помогла его воплотить. Костюмы были сделаны по историческим лекалам. Да, в них довольно сложно существовать, как и в декорациях – тоже сложных, но красивых. Зато был создан мир, идеально подходящий для этого произведения.
Что касается Ольги, то она в начале спектакля – юная веселая девочка, искрометная в высказываниях и шутках. В книге они не читаются как смешные, а в нашей работе сделаны с юмором. В ней много иронии, что мне и самой близко. Иногда у людей возникает вопрос, почему она влюбляется в Обломова, если они такие разные? Но ведь он – большой ребенок, очень творческий, мечтательный, интересно мыслящий. А Ольга только что тоже была ребенком. По ходу сюжета она становится женщиной, но внутри у нее еще теплится ребячество. Детскость Ильи Ильича, его философия привлекают к нему героиню. Да и вообще мне кажется, что любовь нельзя объяснить. И объяснять-то абсурдно! Мы изначально решали, что она сильно влюблена в Обломова, и это чувство живет в ней всю ее жизнь. В финале, когда она, уже с двумя детьми от Штольца, приезжает к герою, разбитому инсультом, – она тоже его любит, и так будет всегда, даже после его смерти. По-моему, эта идея есть и у Гончарова. Я читала роман в школе, потом перечитывала, потом третий раз читала при подготовке к спектаклю, и все время видела эту любовь, хотя Ильинская и выбрала Штольца.
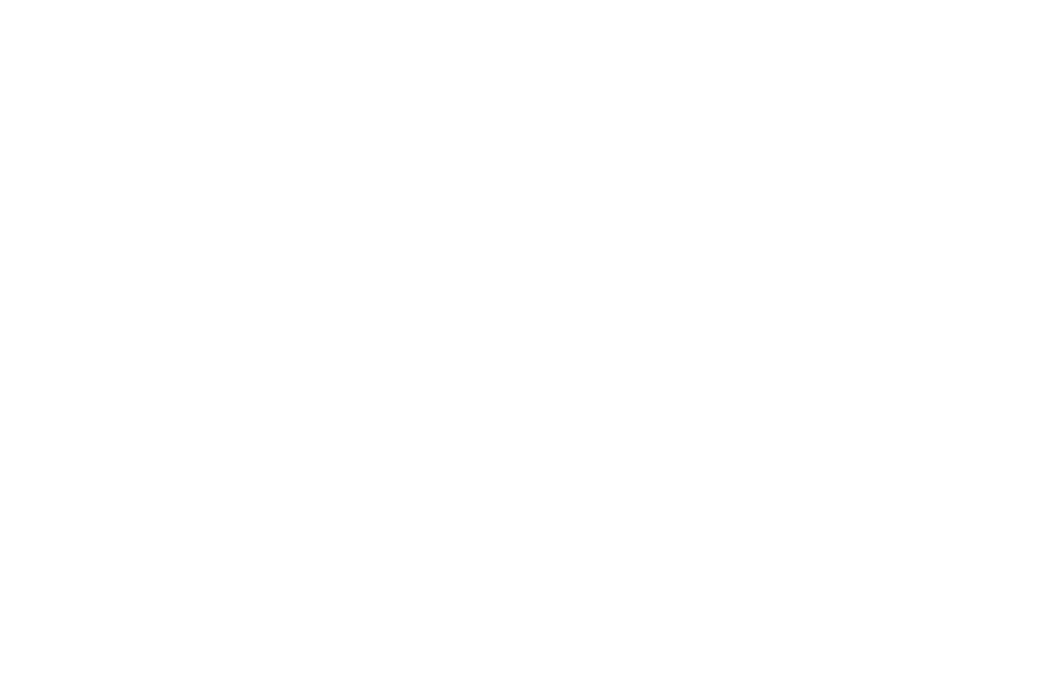
– «Обломов» идет в трактовке, близкой к классике, но бывают спектакли, решенные более современно – и не всегда удачно. Как в этом смысле поставлена сказка «Руслан и Людмила», где вы играете заглавную героиню?
– Вы правы, осовременивание бывает разным, но чаще всего – странным и несуразным, к сожалению. Однако это другой случай. Режиссер Антон Оконешников изначально хотел сделать работу с привлечением различных технологий, искусственного интеллекта. Мы существуем в реалиях, в которых технические достижения – часть нашей жизни, их уже нельзя отбросить. Но получилось интересное решение, не испортившее классическое произведение, от него не корежит. А то, бывает, сидишь в зале и думаешь: «Зачем же так портить классику!» В нашем спектакле есть свой взгляд, не мешающий восприятию текста Пушкина, а придающий ему новое дыхание. Внешние эффекты помогают передать мысль не только постановщика, но и автора. Кроме того, это делает поэму доступной для маленького зрителя. Если мы обернемся назад, в прошлое, то увидим, что детские спектакли всегда игрались на понятном детям языке. Артисты использовали определенную характерность, манеру речи, позволяющую донести смысл, яркие костюмы и декорации. Сегодня у нас есть высокие технологии, которые (к сожалению или к счастью) доступны и ребенку, и мы не можем их не использовать. Но по сути мы прибегаем все к тем же приемам, что и раньше, – немножко гиперболизированным, призванным увлечь внимание ребят, чтобы они не скучали.
– Вы стали Людмилой после Анны Блиновой. Вводились легко?
– Ввод был экстренным. В таких случаях можно только смотреть запись спектакля и заучивать интонации и рисунок, акценты, которые делала до меня другая актриса, чтобы самой повторить их. Но, отыграв 5-10 раз, я стала вносить в роль нечто свое. Например, в начале второго акта есть сцена с зеркалом, в которое Людмила смотрится и плачет. Аня Блинова, игравшая в постановке изначально, делала это достаточно серьезно, вытирая слезы. А мне казалось, что в сказке много юмора, и его надо передать. И я стала подправлять тушь, играла в духе: «Все, поплакала – и хватит!» Я нашла это почти случайно, но такое решение вызвало в зале сильный смех. Тогда я закрепила его и оставила. Изменилась и финальная сцена, в которой Людмила просыпается, видит Руслана и обнимает его. Режиссер сказал артисту Виктору Шуралеву: «Подними ее так, как капитан Холин держит Машу над окопом в фильме Тарковского “Иваново детство”». Этот эпизод остался в спектакле, прибавлялись и другие.
Так постепенно возникла уже моя Людмила. Совпадает ли она с пушкинской? Разумеется, не весь оригинальный текст мог войти в спектакль. Но я перечитывала его полностью, и в нем столько интересного! Пушкин описывает Людмилу не просто как девушку, которая только плачет и ждет, пока ее спасут. Ведь крадет же она шапку-невидимку у Черномора и, невидимая, от него убегает, бродит по садам в его владениях. Да, она постоянно зовет Руслана, надеется на чудо, но и сама многое делает для того, чтобы это чудо могло произойти. Это важно, потому что именно такое поведение отличает настоящую героиню.
– Вы правы, осовременивание бывает разным, но чаще всего – странным и несуразным, к сожалению. Однако это другой случай. Режиссер Антон Оконешников изначально хотел сделать работу с привлечением различных технологий, искусственного интеллекта. Мы существуем в реалиях, в которых технические достижения – часть нашей жизни, их уже нельзя отбросить. Но получилось интересное решение, не испортившее классическое произведение, от него не корежит. А то, бывает, сидишь в зале и думаешь: «Зачем же так портить классику!» В нашем спектакле есть свой взгляд, не мешающий восприятию текста Пушкина, а придающий ему новое дыхание. Внешние эффекты помогают передать мысль не только постановщика, но и автора. Кроме того, это делает поэму доступной для маленького зрителя. Если мы обернемся назад, в прошлое, то увидим, что детские спектакли всегда игрались на понятном детям языке. Артисты использовали определенную характерность, манеру речи, позволяющую донести смысл, яркие костюмы и декорации. Сегодня у нас есть высокие технологии, которые (к сожалению или к счастью) доступны и ребенку, и мы не можем их не использовать. Но по сути мы прибегаем все к тем же приемам, что и раньше, – немножко гиперболизированным, призванным увлечь внимание ребят, чтобы они не скучали.
– Вы стали Людмилой после Анны Блиновой. Вводились легко?
– Ввод был экстренным. В таких случаях можно только смотреть запись спектакля и заучивать интонации и рисунок, акценты, которые делала до меня другая актриса, чтобы самой повторить их. Но, отыграв 5-10 раз, я стала вносить в роль нечто свое. Например, в начале второго акта есть сцена с зеркалом, в которое Людмила смотрится и плачет. Аня Блинова, игравшая в постановке изначально, делала это достаточно серьезно, вытирая слезы. А мне казалось, что в сказке много юмора, и его надо передать. И я стала подправлять тушь, играла в духе: «Все, поплакала – и хватит!» Я нашла это почти случайно, но такое решение вызвало в зале сильный смех. Тогда я закрепила его и оставила. Изменилась и финальная сцена, в которой Людмила просыпается, видит Руслана и обнимает его. Режиссер сказал артисту Виктору Шуралеву: «Подними ее так, как капитан Холин держит Машу над окопом в фильме Тарковского “Иваново детство”». Этот эпизод остался в спектакле, прибавлялись и другие.
Так постепенно возникла уже моя Людмила. Совпадает ли она с пушкинской? Разумеется, не весь оригинальный текст мог войти в спектакль. Но я перечитывала его полностью, и в нем столько интересного! Пушкин описывает Людмилу не просто как девушку, которая только плачет и ждет, пока ее спасут. Ведь крадет же она шапку-невидимку у Черномора и, невидимая, от него убегает, бродит по садам в его владениях. Да, она постоянно зовет Руслана, надеется на чудо, но и сама многое делает для того, чтобы это чудо могло произойти. Это важно, потому что именно такое поведение отличает настоящую героиню.
– Вы сказали, что пришли в профессию с мыслью о кино. Театр вас совсем не привлекал?
– Я хотела быть на сцене. Но, в отличие от многих будущих артистов, знающих, где они хотят играть, у меня никогда не было театра, куда бы я стремилась. Сознаюсь, что до начала учебы вообще почти в театры не ходила (да и во время нее удавалось мало, разве что ближе к выпуску). Хотя, конечно, артисту необходимо много смотреть, а я только сейчас нагоняю, заполняю пробелы. Но фильмов я видела в разы больше, чем спектаклей, и в кино разбираюсь намного лучше. Возможно, это связано с воспитанием. Мама мне с 10 лет показывала картины Феллини, Тарковского, чуть позднее я начала смотреть Триера, Антониони. А когда я в детстве на три месяца приезжала к бабушке Люде в Кисловодск, мы включали советскую классику, «золотой век» Голливуда. С тех лет помню «Рокко и его братья» с Аленом Делоном. Многое я знала по цитатам наизусть. Это как-то западало в душу. Поэтому кинематограф меня невероятно привлекал.
Но реализоваться в нем пока не удается по нескольким причинам. Во-первых, очень тяжело совмещать, особенно молодому исполнителю. У меня большая занятость. Пусть я играю и в массовке, но нельзя просто сняться с этих ролей. Да и театр у нас такой, что отпускают на съемки неохотно. Оно и понятно: ты сначала должен пройти путь стажера. У меня даже есть иррациональный страх, что я не успею «посветить» в экран лицом, пока оно юное. Наверное, не стоит этого бояться, потому что я набираю огромный актерский опыт на спектаклях. Я настаиваю на том, что артист не может расти и развиваться без театра. Он дает тебе базу, главные навыки. Это наше всё! В кино для этого нет времени. Мне кажется, сегодня оно – больше про финансы, нежели про искусство.
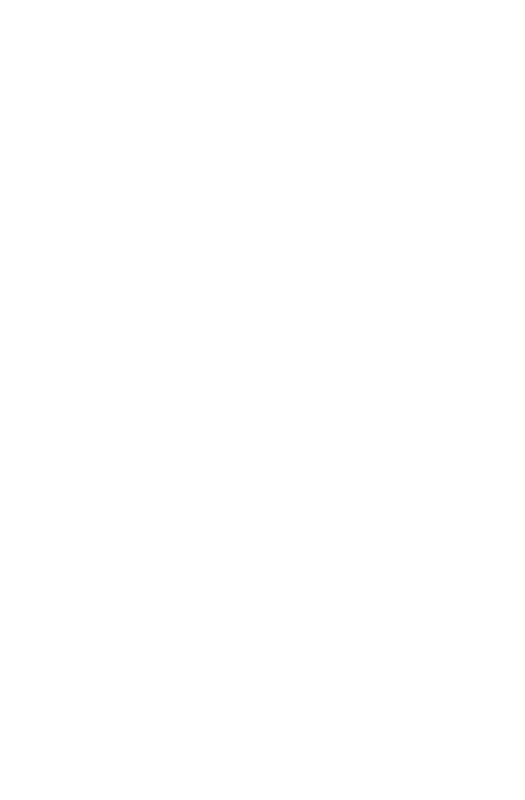
Дарья Семёнова
Представлены фото из спектаклей Александринского театра «Обломов» и «Руслан и Людмила»
Представлены фото из спектаклей Александринского театра «Обломов» и «Руслан и Людмила»

